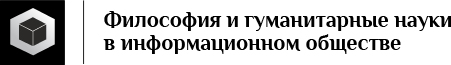УДК 172.1
Мальцев Константин Геннадьевич – Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, кафедра теории и методологии науки, профессор, доктор философских наук, профессор.
Email: maltsevaannav@mail.ru
Ломако Леонид Леонидович – Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, кафедра теории и методологии науки, аспирант.
Email: parmenid@bk.ru
Авторское резюме
Состояние вопроса: Изучение нового мирового порядка, определяемого чаще всего как имперский порядок, ведется в трех основных направлениях. Во-первых, неомарксистская традиция, представленная прежде всего М. Хардтом и А. Негри, полагает имперскую суверенную власть естественным результатом процессов экономических, социальных, культурных, политических преобразований последних 30 лет. Во-вторых, либеральная концепция империи (например, Д. Лал) в этом не отличается от названной выше неомарксистской. В-третьих, теория больших пространств К. Шмитта считает необходимым не глобальный и универсальный имперский порядок, но несколько таких порядков, соседствующих и взаимодействующих друг с другом, и может служить теоретическим основанием концепции «многополярного мира», в противоположность всем разновидностям концепции «глобализации».
Результаты: Структура имперского порядка, способ легитимации, перманентная война (как антитеррористическая война) как постоянный и нормальный способ существования этого порядка – основные элементы концепции М. Хардта и А. Негри. Их позиция предполагает необходимость преодоления наличного состояния. М. Хардт и А. Негри наделяют множество, новую реальность, пришедшую на смену народу, способностью противостоять имперскому универсальному порядку и связывают с множеством возможность нового, демократического, но также универсального мирового порядка. Этот новый мировой порядок – основное отличие неомарксистской концепции от либеральной. Структура мира, организованного как ряд «больших политических пространств», представленная в теории К. Шмитта, рассматривается в статье как единственная существующая теоретическая альтернатива.
Область применения результатов: Идеологические и политические споры (и упорная политическая борьба, вплоть до «гибридных войн») есть реальность, нуждающаяся в теоретическом (научном) и философском осмыслении (философском в той степени, в какой речь идет именно о выборе и решении, находящихся вне компетенции «позитивной науки» и научных теорий).
Выводы: Перманентная война (в настоящее время – как антитеррористическая война) – естественное состояние имперского мирового порядка. Порядок «больших политических пространств» не исключает войну как способ решения противоречий между такими пространствами (империями), но сберегает «конвенциональную войну» (по правилам). Глобальная империя необходимо отказывается от такой ограниченной войны в пользу возрождаемого концепта «справедливой», то есть тотальной войны, со всеми ее (перечисленными и не перечисленными в статье) атрибутами: криминализация и моральная дисквалификация противника как преступника; полицейский порядок как единственно возможный и легитимный порядок империи.
Ключевые слова: Империя; «большое политическое пространство»; легитимность; суверенитет; тотальная война; справедливая война; антитеррористическая война.
Imperial Legitimacy and Anti-Terrorism Warfare
Maltsev Konstantin Gennadevich – Belgorod StateTechnological University named after V. G. Shukhov, Department of Theory and Methodology of Science, Professor, Doctor of Philosophy, Professor.
Email: maltsevaannav@mail.ru
Lomako Leonid Leonidovich – Belgorod StateTechnological University named after V. G. Shukhov, Department of Theory and Methodology of Science, postgraduate student.
Email: parmenid@bk.ru
Abstract
Background: The study of the new world order, most often defined as the imperial order, is carried out in three main directions. Firstly, the neo-Marxist tradition, represented primarily by M. Hardt and A. Negri, considers imperial sovereign power to be the natural result of the processes of economic, social, cultural, political transformations during the last 30 years. Secondly, the liberal concept of empire (for example, D. Lal) does not differ from the neo-Marxist one mentioned above up to a point. Thirdly, the theory of large spaces by C. Schmitt considers it necessary not a global and universal imperial order, but several orders, neighboring and interacting with one another, and can serve as a theoretical basis for the concept of a “multipolar world”, in contrast to all varieties of the concept of “globalization”.
Results: The structure of the imperial order, the method of legitimation, permanent war (as anti-terrorism war) as a permanent and normal way of this order existence are the main elements of the concept of M. Hardt and A. Negri. Their position implies the need to overcome the present state. M. Hardt and A. Negri endow the multitude, a new reality that has replaced the people, with the ability to resist the imperial universal order and associate with the multitude the possibility of a new, democratic, but also universal world order. This is the main difference between the neo-Marxist concept and the liberal one. The structure of the world, organized as a series of “large political spaces”, presented in the theory of C. Schmitt, is considered as the only theoretical alternative developed.
Implications: Ideological and political disputes (and a stubborn political struggle, up to “hybrid wars”) are reality that needs theoretical (scientific) and philosophical reflection – philosophical to the extent that it is about the choice and decision that are outside the competence of “positive science” and scientific theories.
Conclusion: Permanent war (now known as anti-terrorism war) is a natural state of the imperial world order. The order of “large political spaces” does not exclude war as a way to resolve the contradictions between such spaces (empires), but saves a “conventional war” (according to the rules). A global empire rejects such a limited war in favor of the resurgent concept of “fair”, that is a total war, with all its attributes: criminalization and moral disqualification of the enemy as a criminal; police order as the only possible and legitimate order of the empire.
Keywords: Empire; “Large political space”; legitimacy; sovereignty; total war; fair war; anti-terrorism war.
Кризис суверенитета национальных государств признается практически всеми исследователями; современное состояние, все чаще определяемое как война, не отменяет, но, напротив, усиливает потребность в легитимации нового, теперь глобального, порядка (иначе война будет длиться бесконечно); источники и способы легитимации могут полагаться наличествующими, или их только предстоит создать (крайние случаи; прагматичность склоняет нас предполагать, что в действительности следует ожидать смешения имеющихся и заново сконструированных источников легитимности); глобальный порядок не может не быть суверенным. Глобальный суверен не может иметь законного врага, значит, любое сопротивление будет квалифицироваться как бунт или терроризм и антитеррористическая война будет (и уже является, кстати) перманентным состоянием нового порядка – по крайней мере, до тех пор, пока будут сопротивляющиеся ему (политический реализм заставляет признать, что всегда), то есть такая война – не случай, но необходимость (случайной является ее интенсивность). Задача нашей статьи – представить некоторые влиятельные интерпретации ситуации, кратко описанной выше (мы прекрасно сознаем при этом, что само предложенное описание вполне зависимо от «интерпретаций», которые нам предстоит здесь рассмотреть).
Собственно говоря, все известные нам теории укладываются в две основные модели. Первая – либеральная/демократическая модель глобальной империи (не «либеральная» и не «демократическая» империя!). Здесь наиболее показательными вариантами (из последних) являются описания, предложенные, во-первых, М. Хардтом и А. Негри в книге «Империя» [см.: 1] (2000 год, демократическая и даже марксистская), и, во-вторых, «чисто либеральный» вариант Дипака Лала, предложенный в книге «Похвала империи» [см.: 2] (2004 год). Вторая, единственная связная концепция многополярного мира, и это следует признать, предложена К. Шмиттом [см.: 3] в его «порядке больших пространств», которые он именует «рейхами», то есть тоже империями, но своим «множеством» сохраняющими фундаментальное для «состояния мира» (в противоположность войне) различение «внутреннего» и «внешнего» (и со своим порядком легитимации на уже наличествующих основаниях), концепция, значение которой далеко выходит за пределы конкретно вызвавшей ее появление ситуации (можно, конечно, как это часто делается, не упоминать Шмитта, тем более не пользоваться его табуированной терминологией, но это не добавит ясности, хотя выиграет в благонадежности и политкорректности; Шмитт до настоящего времени является крупнейшим специалистом по теории политического пространства, с этим приходится все больше считаться даже его непримиримым идейным врагам, что подтверждается переизданием его работ и нарастающим потоком публикаций, претендующих на «объективный», а не только «разоблачающий», анализ его теорий). В-третьих, к обозначенным направлениям изучения «современного имперского порядка» следует добавить работы авторов, выдвигающих конструкции «общей теории империи» (Мюнклер [см.: 4], Каспэ [см.: 5], если называть только современных).
В данной статье мы предполагаем рассмотреть лишь один аспект «современного имперского порядка»: необходимо сопутствующую ему антитеррористическую войну и, косвенно, некоторые способы нейтрализовать эту необходимость в процессе легитимации империи. При этом следует иметь в виду, что шмиттовская теория «больших пространств» – единственная, исключающая по сути тотальную «антитеррористическую войну», сохраняя войну «оберегаемую правом» (и локальные революционные, гражданские войны; есть основания полагать, что сам Шмитт [см.: 6], оценивая ситуацию, сложившуюся после мировой войны, считал «порядок рейхов» упущенной возможностью, и тогда гражданская или революционная война, о которой говорил Шмитт, есть просто другое название современной антитеррористической войны, ее «ранний этап»; актуальной теорию Шмитта делает заявленное стремление некоторых сильных игроков к многополярному миру, в том случае, конечно, если не считать его возможность утопичной, а заявку на него – одним из моментов торга по распределению власти и доходов в рамках глобальной империи).
Как известно, М. Вебер [см.: 7] определил три идеальных типа легитимности: традиционную, харизматическую и легалистскую (иногда они называются иначе, мы приводим общеизвестные «школьные» названия); идеальный тип есть методическое упрощение, рационализация, абсолютизация односторонности, содержит существенный телеологический момент; в «действительности» мы всегда имеем «смешение», «в целом» определенное «преимущественно» одним из названных типов. К. Шмитт [см.: 8, с. 171] назвал четыре основных «чистых» типа государственной формы[1]: государство законодательства, государство юрисдикции, государство правления, государство администрации. Между идеально-типическими способами легитимации и чистыми формами государства также нет «идеального», однозначного соответствия.
Современная глобальная империя «более всего» соответствует государству администрации (если начать наше рассмотрение с концепции М. Хардта – А. Негри), которое Шмитт определяет так: «Можно представить и такое государство, в котором повеление и воля не исходят от личности, наделенной верховной властью, не являются простым претворением в жизнь ранее принятых высших норм, а представляют собой лишь сугубо конкретные предписания; таково государство администрации, в котором правят не люди, не законодательные нормы, воспринимаемые как нечто высшее, но, согласно знаменитой формуле, “вещи управляют сами собой”» [8, с. 174]. Шмитт, когда писал эту работу, считал такую картину утопичной, но полагал, что «государство администрации все-таки мыслимо, и его отличительной особенностью является конкретная мера, обусловленная только реальным положением дел, принятая в связи с конкретной ситуацией и обоснованная практической целесообразностью» [8, с. 174], – краткое и точное определение, подытоживающее (максимально полно для дефиниции) то существенное, что писали о форме современной империи М. Хардт и А. Негри (которые на Шмитта в этой связи не ссылаются). Специально вопрос о соответствующем данной государственной форме способе легитимности в литературе не рассматривался; однако в книге «Империя» много места уделено способам легитимации имперского мирового порядка.
Империя есть принципиально новая форма господства, она не принадлежит тому, что получило название Модерн [1, с. 143], – это временная локализация империи. У нее есть и другая локализация; М. Хардт и А. Негри пишут: «Сегодняшняя идея империи родилась благодаря глобальной экспансии собственного, исходно рассчитанного на внутренние условия конституционного проекта США. Фактически именно через расширение сферы действия внутренних конституционных процессов начинается процесс конституирования Империи» [1, с. 174]. Таким образом, мы имеем дело не с «империей вообще», но с уже вполне определенной империей, тем самым безусловно выигрывая в плане «научности», «позитивности». Несколько опережая изложение, приведем еще и третий, существенным образом еще более «конкретизирующий» образ Империи, ее характерный признак (здесь Хардт – Негри не согласятся). Авторы книги пишут: «С окончанием “холодной войны” Соединенные Штаты были призваны гарантировать сложный процесс формирования нового наднационального права и придать ему юридическую эффективность. Так же, как в первом веке христианской эры римские сенаторы просили Августа ради общественного блага принять имперские полномочия, также и сегодня международные организации (ООН, международные финансовые и даже гуманитарные организации) просят Соединенные Штаты взять на себя главную роль в Новом мировом порядке» [1, с. 173]. Авторы настоятельно подчеркивают, что «призывы являются реальными и весомыми» [1, с. 173], что «американские военные, даже против своей воли, должны были бы во имя мира и порядка ответить на вызов» [1, с. 173], что «наднациональные органы призывают США к активной деятельности, направленной на реализацию суммы четко сформулированных юридических и организационных инициатив» [1, с. 173]. Здесь дело не в том, что подобного рода призывы можно организовать (есть несколько разработанных для этого технологий, «оранжевые революции», например; или, из самого последнего времени – события в Венесуэле, когда легитимно избранного и контролирующего территорию президента можно «не признать» на основе призывов не важно кого именно), но прежде всего в том, что классическое понятие суверенитета устанавливает: суверен вне и над устанавливаемым им правом. Широчайшая практика «признания» или «непризнания» («не вхождения», «исключений», «неприменимости для граждан США» и т. п.) международного права и организаций, обязательных для всех остальных, применяемая США (не «случайно», но вполне «тотально») показывает, что имперский суверенитет едва ли сущностно отличается (на чем настаивают Хардт – Негри) от «классического». Наконец, для интерпретации теории Империи Хардта – Негри необходимо удерживать перспективу борьбы с Империей: «Сегодня быть республиканцем означает прежде всего бороться изнутри, возводя контримперские конструкции на гибридной, меняющейся территории Империи» [1, с. 206]; М. Хардт и А. Негри позиционируют себя не просто демократами, но даже марксистами, и, конструируя теорию Империи, они создают не «апологию», но «критическую теорию». Таким образом, мы получили необходимые «рамки» для анализа концепции современной универсальной глобальной империи.
Империя есть «мировой порядок», и «порядок этот выражен в виде правовой структуры» [1, с. 19]; он возник на основе глобального рынка в связи с неспособностью национальных государств обеспечить его функционирование, «даже наиболее сильные национальные государства не могут далее признаваться в качестве верховной и суверенной власти ни вне, ни даже в рамках собственных границ» [1, с. 11]; кризис «старого порядка» национальных суверенитетов был, если верить Хардту – Негри, перманентным со времени его установления после Вестфальского мирного договора 1648 года [1, с. 20]. Но это не означает «элиминирование» суверенитета. «Ослабление суверенитета национальных государств вовсе не означает, что суверенитет как таковой приходит в упадок» [1, с. 11]; основная гипотеза состоит в том, «что суверенитет принял новую форму, образованную рядом национальных и наднациональных органов, объединенных единой логикой управления. Эта новая глобальная форма суверенитета и является тем, что мы называем Империей» [1, с. 11–12]; «переход к Империи порождается упадком суверенитета современного типа. В противоположность империализму, Империя не создает территориальный центр власти и не опирается на жестко закрепленные границы или преграды. Это – децентрированный и детерриториализованный, то есть лишенный центра и привязки к определенной территории, аппарат управления, который постепенно включает все глобальное пространство в свои открытые и расширяющиеся границы. Империя управляет смешанными, гибридными идентичностями, гибкими иерархиями и множественными обменами посредством модулирования командных сетей» [1, с. 12]. Ни одно государство не способно стать центром империалистического проекта; но исторически США (авторы описывают эту историю, но об этом позже) являются фактически центром проекта имперского (в силу своего устройства и по факту победы в «холодной войне»; потому, что имеют средства для того, чтобы выполнять функции всемирного полицейского). Империя, для авторов цитируемой книги, не метафора, но понятие, которое предполагает «главным образом теоретический подход» [1, с. 14]. Идея империи определяется тремя основными характеристиками. Во-первых, империя не имеет границ в пространстве и времени, «ее владычество не знает пределов. Первое и самое главное в концепции Империи – это утверждение системы пространственной всеобщности, то есть по сути, власти над всем “цивилизованным” миром. Никакие территориальные границы не ставят пределов этой власти» [1, с. 14]; «Империя выхолащивает время, лишает историю ее временного измерения и помещает прошлое и будущее в рамки собственного этического порядка. Иными словами, Империя представляет свой порядок как постоянный, извечный и необходимый» [1, с. 26]; империя представляет свой порядок не как завоевание, но «скорее как порядок, который на деле исключает ход истории и таким образом навсегда закрепляет существующее положение вещей. С точки зрения Империи, нынешнее положение вещей будет существовать всегда и ему всегда было предназначено быть таким. Империя представляет свое владычество не как преходящий момент в движении истории, а как способ правления вне каких бы то ни было временных рамок и в этом смысле – вне истории либо как конец истории» [1, с. 14]. Во-вторых, Империя универсальна не только в пространстве и времени, но «владычество Империи распространяется на все уровни социального порядка, достигая самых глубин социального мира. Империя не только управляет территориями и населением, она создает тот мир, в котором живет. Она не только регулирует отношения между людьми, но также стремится к непосредственному овладению человеческой природой. Объектом ее контроля является общественная жизнь в ее целостности, и таким образом Империя представляет собой совершенную форму биовласти» [1, с. 14].
Мы считаем возможным опустить вопрос о «формах», подготовивших нынешнее торжество имперского порядка (ООН, международные неправительственные организации, МВФ, Всемирный банк, международные суды разного уровня и компетенции, торговые организации и т. п.), ставшее основой имперской инфраструктуры; достаточно сказать, что, по утверждению авторов, «в неоднозначном опыте ООН правовое понятие Империи начало обретать форму» [1, с. 22]; также цели нашей статьи не предполагают останавливаться на теоретических и идеологических «провозвестиях» имперского устройства (называются, например, теория международного права Кельзена, неокантианца по своей методологии, авторы об этом не упоминают; на разработку Гоббсом и Локком «монархической» и «либеральной» соответственно форм государственного устройства; на «теории универсальной демократии» Спинозы и т. д.), и перейти сразу к вопросу об устройстве имперского порядка, способе его легитимации и связанным с этим непосредственно вопросам сопротивления империи, только тем из них, против которых и была объявлена антитеррористическая война.
Современная Империя – новая парадигма, как выражаются авторы, и потому не может определяться «только негативно»: «Следует избегать определения перехода к Империи в одних лишь негативных терминах, то есть терминах того, чем она не является, что, к примеру, происходит, когда говорят: новая парадигма характеризуется окончательным упадком суверенных национальных государств, дерегулированием международных рынков, концом антагонистического противоборства между государствами и так далее» [1, с. 28]. В теории новая парадигма, утверждают авторы, может быть представлена как «соединение теории систем Н. Лумана [см.: 13] и теории справедливости Д. Ролза [см.: 14]» [1, с. 28].
Структурная логика имперского порядка (и здесь как раз проявляется опора авторов на теорию систем Лумана) на практике может быть определена как «правление без правительства» [1, с. 28] и описывается так: «В глобальном порядке доминирующую позицию занимает системная тотальность, решительно порывающая со всякой предшествующей диалектикой и устанавливающая интеграцию акторов, которая кажется линейной и спонтанной. Однако в то же самое время эффективность консенсуса под эгидой верховной власти в рамках устанавливающегося порядка оказывается более чем когда-либо очевидной. Все конфликты, все кризисы и разногласия успешно способствуют процессу интеграции, взывая ко все большей централизации власти. Мир, спокойствие и прекращение конфликтов являются как раз теми ценностями, на достижение которых все и направлено. Развитие глобальной системы (в первую очередь, имперского права) кажется развитием машины, устанавливающей процедуры непрерывной выработки и реализации договоренностей, ведущих к достижению системного равновесия – машины, создающей постоянный запрос на власть. Эта машина предопределяет условия осуществления власти и действия во всем социальном пространстве. Любое движение фиксировано и может найти предназначенное ему место только внутри самой системы, в соответствующих ей иерархических отношениях. Это предзаданное движение определяет реальность процесса становления имперского мирового порядка – новой парадигмы» [1, с. 28]. Таким образом, механизм имперского господства составляют «три различные движущие силы, три момента: один – включающий, другой – дифференцирующий и третий – момент управления» [1, с. 188]. Первый момент, «либеральный облик Империи», означает, что «все желанны в пределах ее границ безотносительно к расе, вероисповеданию, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации и так далее. В своем включающем аспекте Империя слепа к различиям; она абсолютно нейтральна к ним» [1, с. 188]. Публичное пространство нейтралитета делает возможным «установление и легитимацию универсального понимания права, формирующего ядро Империи» [1, с. 188]. Однако авторы указывают и на «оборотную сторону», «пренебрежение различиями означает в действительности выхолащивание потенциала различных составляющих империю субъективностей» [1, с. 188], то есть нейтрализуют творческий потенциал множества (на которое, повторим, авторы возлагают освободительные надежды). Здесь же следует еще раз сказать и о том, что в этом «благожелательном универсализме», до настоящего времени, по крайней мере, есть исключение: американские граждане имеют иммунитет в отношении «универсального понимания права». «Миролюбивый порядок», по которому «без значительного сопротивления или конфликта скользят субъективности» [1, с. 189], помимо названного, имеет еще несколько «исключений», именно тех, против кого ведется война. Второй, дифференцирующий, момент «предполагает утверждение различий, принятых в имперской реальности» [1, с. 189]; «если с юридической точки зрения различия должны быть отброшены, то с точки зрения культуры они, напротив, приветствуются» [1, с. 189]. Такие различия не только «не разрушают важнейшие скрепляющие звенья общности или всеохватывающий консенсус» [1, с. 189], но, напротив, делают множество управляемым. Авторы утверждают, что «Империя не создает различий. Она берет то, что ей дают, и работает с этим» [1, с. 189]. Знают они и о старом имперском принципе «разделяй – и властвуй» [см.: 1, с. 191], но полагают, что к Империи это отношения не имеет, хотя и признают, что тактика, основанная на этом принципе, широко и успешно применялась на «других уровнях» еще до времени Империи (например, поддержание многонациональных составов рабочих промышленных предприятий, чтобы противоречия и простое непонимания между ними не позволили им вести согласованную борьбу с работодателем/собственником; применяется она и на южноамериканских плантациях до настоящего времени, и тоже успешно). Вообще, Империя – враг фиксированных идентичностей и всячески споспешествует их «размыванию», ее идеал – меньшинства. Третий момент, управление и «иерархическое структурирование этих различий в общую экономику господства» [1, с. 189] как раз и основывается на разрушении «чистых, обособленных идентичностей» [1, с. 189] и основывается «на потоках движения и смешения» [1, с. 189]. В общем, ссылаясь на исследования М. Фуко, авторы утверждают, что империя есть «порядок контроля», в противоположность предыдущему «дисциплинарному обществу» [1, с. 35]. Общество контроля «формируется на заре современности и развивается, двигаясь к периоду постсовременности, общество, где механизмы принуждения становятся еще более “демократическими”, еще более имманентными социальному полю, распространяясь на умы и тела граждан» [1, с. 36]; «практики социальной интеграции и исключения, свойственные системе управления, все более и более становятся внутренней сущностью самих субъектов. Теперь власть осуществляется посредством машин, которые напрямую целенаправленно воздействуют на умы (посредством коммуникационных систем, информационных сетей и так далее) и тела (через системы соцобеспечения, мониторинг деятельности и тому подобное), формируя состояние автономного отчуждения от смысла жизни и творческих устремлений» [1, с. 36]. Таким образом, общество контроля «характеризуется интенсификацией и генерализацией аппаратов дисциплинарной нормализации, которые служат внутренней движущей силой наших повседневных практик, но, в отличие от дисциплины, этот контроль распространяется далеко за пределы структурного пространства социальных институтов, действуя посредством гибких и подвижных сетей» [1, с. 36]. В Империи завершился процесс «смены парадигмы суверенитета» «парадигмой правления» (М. Фуко), где «под суверенитетом подразумевается наличие единого центра власти, возвышающегося над социальным полем, а под правлением – общая система дисциплины, пронизывающей все общество» [1, с. 92–93] и осуществляется переход к «обществу контроля», универсализирующему и интернизирующему, снимающему все «внешнее» во всех областях (здесь опять имеет объясняющее значение концепт «биополитики» М. Фуко).
Машина не имеет никакого отношения к «справедливости» (к морали, ценности и т. п.); Империя претендует на установление мира и на установление порядка, основанного на ценности и справедливости. Это – один из двух основных источников ее легитимации. Здесь авторы полагают нужным ориентироваться на теорию справедливости Д. Ролза, хотя нигде не поясняют, что именно из этой теории дает основание для понимания и интерпретации порядка империи. Вообще же имперский порядок имеет два источника легитимации: машину (сила и эффективность) и ценности, от имени которых он действует, то есть ведет войну. Поскольку легитимация через ценность находится в прямом и непосредственном отношении к справедливой войне (основному предмету нашего рассмотрения), то первоначально обратим внимание на «машинную легитимацию» (так ее иногда именуют сами авторы книги).
По утверждению Хардта – Негри, проблема «легитимации начала рассматриваться в терминах машины управления» [1, с. 102] достаточно давно, именно с того времени, когда в школе естественного права (с ХVП века, здесь в качестве авторов упоминаются Гроций, Томазий, Пуффендорф) «трансцедентальные образы суверенитета были спущены с небес на землю и укоренены в реальности институциональных и административных процессов» [1, с. 102]; имперская ситуация является в этом отношении завершением определенной традиции. Способность разрешать конфликты «машиной», о которой мы уже писали, ведет к «концептуальной неотделимости права на власть от ее осуществления» [1, с. 19] и «с самого начала утверждается как априори системы» [1, с. 19]: «машина сама себя легитимирует и воспроизводит, то есть является аутопойетической или системной» [1, с. 45]. Важнейшим способом легитимации имперской машины (и местом ее происхождения) является «индустрия коммуникаций» [1, с. 45]. «В этом совпадении производства посредством речи, лингвистического производства реальности и языка собственной легитимации и лежит главный ключ к пониманию действенности, юридической силы и легитимности имперского права» [1, с. 45–46]. В общем, это «форма легитимации, которая основывается только на себе самой и непрестанно воспроизводится, развивая собственный язык самоподтверждения» [1, с. 45]. На старом языке метафизики это называется «свободой», или «автономностью», или «суверенностью» воли; внешнее проявление воли называется силой, и вполне закономерно, что (не имея в виду этого «порядка аргументации», и не выводя свое следующее утверждение из приведенных нами выше) авторы отмечают: «Фактически легитимность новой власти отчасти опирается непосредственно на эффективность использования силы» [1, с. 46]; «власть в Империи осуществляется посредством силы, и все те инструменты, которые гарантируют ее эффективность, уже очень развиты технологически и прочно закреплены политически» [1, с. 46]. Эффективность применения силы имеет «обратный эффект» обоснования и легитимации ее применения (почти «победителей не судят»). Однако «империя создается не только на основе одной лишь силы, но и на способности представить эту силу залогом права и мира» [1, с. 29]; здесь мы должны перейти к «справедливости» имперского порядка, легитимируемого ценностями. Еще одно замечание, относящееся к сказанному: голая сила должна облечься в подобающую «юридическую форму». «Легитимация имперского порядка не может основываться на простой эффективности правовых санкций и способности применить их с помощью военной силы. Она должна развиваться посредством производства международных юридических норм, утверждающих власть актора-гегемона на прочном и правовом основании» [1, с. 172]; это право основывается не на «договоре», но есть «идея права, предполагающая существование верховной власти, легитимного наднационального двигателя юридического процесса» [1, с. 173]. Авторы не дают однозначного ответа на вопрос, кто это может быть и кто, если империя уже существует, таким «легитимным двигателем» уже является (международные организации во главе с ООН таковыми быть не могут, их значение в этом отношении снято появлением Империи). Но то, что Хардт и Негри пишут о конституции США, о роли США в становлении Империи, о «процессе расширения» американской конституции (мы уже приводили соответствующие их высказывания) показывают, в каком направлении следует вести поиск этого «легитимного двигателя».
Второй «порядок легитимации» Империи отсылает к «общечеловеческим» и «универсальным» ценностям, которые реализуются (противоречиво, никогда «до конца», лишь «относительно прежнего состояния») имперским порядком. Ссылка на историю (на Римскую империю) носит вспомогательный характер, но тем не менее открывает для современного имперского порядка перспективу (не «временную» или «пространственную» – империя универсальна и вечна, но «эсхатологическую»: несмотря на то, что она вся без остатка «по эту сторону», но в процессе повествования у авторов периодически появляются ссылки и на «Град Божий» Августина, и на традицию милленаризма, Иоахима Флорского), выполняющую не только роль аргумента «ad homenem»: «Понятие Империи соединило правовые категории с универсальными этическими ценностями, определив их существование в качестве органического целого. Этот союз постоянно присутствовал в понятии Империи, несмотря на все превратности истории» [1, с. 25]. Главное для авторов, конечно, то, что «всякая правовая система представляет собой своего рода кристаллизацию определенной совокупности ценностей, поскольку мораль является составной частью субстанции, лежащей в основе любой системы права, но особенность Империи состоит в том, что она доводит совпадение и универсальный характер этического и юридического принципа до предела: Империя – это мир и гарантии справедливости для всех народов. Идея Империи предстает в образе глобального оркестра под управлением одного дирижера как единая власть, которая сохраняет социальный мир и производит этические истины» [1, с. 25]. Для этого власть наделена силой, чтобы вести «справедливые войны»: «на границах – против варваров, и внутри – против бунтовщиков» [1, с. 25]. Итак, ценностная легитимация имперского порядка не просто предполагает, но обязывает взять на вооружение концепцию «справедливой войны»; авторы отмечают возрождение интереса к ней [1, с. 26–27] в наше время. В Новое время попытались отделаться от этого средневекового концепта не в последнюю очередь потому, что известная тогда форма справедливой войны – религиозная война – опустошавшая Европу в XVI и ХVII веках произвела на современников страшное впечатление и долго помнилась еще многим поколениями европейцев. Справедливая война отличается тем, что криминализирует противника (он не враг, а преступник, и даже святотатец), не различает собственно воюющих и население (враги все), является по своей сути тотальной войной. Однако современный имперский порядок предполагает утверждение всеобщего мира и справедливости, и тем самым берет на вооружение этот концепт, причем преобразуя его в сторону еще большей «универсальности». Две характеристики справедливой войны, «с одной стороны, война низводится до статуса простой полицейской акции, с другой стороны, происходит сакрализация новой власти, которая может посредством войны легитимно исполнять этически обоснованные функции» [1, с. 27], – развиваются еще дальше: «Сегодняшнее понятие справедливой войны отмечено несколькими поистине принципиальными новшествами» [1, с. 27]. Во-первых, она «перестает быть практикой защиты или сопротивления» [1, с. 27], хотя бы только на словах, но «становится деятельностью, которая оправдана сама по себе» [1, с. 27], во-вторых же, она становится постоянным, «нормальным» состоянием: чрезвычайное положение и связанные с ним процедуры есть нормальное состояние империи; Хардт – Негри даже пишут о наличии характерной для Империи «парадигмы легитимации, основанной на постоянном чрезвычайном положении и полицейских мерах» [1, с. 49]. Причин этому несколько.
1) Империи просто не с кем заключать мир. С преступниками в переговоры не вступают, тем более что «чаще всего врагов называют террористами, что являет собой грубую концептуальную и терминологическую редукцию, коренящуюся в полицейской ментальности» [1, с. 48], причем «сегодня враг, как и сама война, одновременно «банализируется (низводится до уровня обычных полицейских репрессивных мер) и абсолютизируется (как Враг, абсолютная угроза моральному порядку)» [1, с. 27]. Но ведь порядок империи и есть по определению полицейский порядок: Империя есть полицейское государство, в котором «чрезвычайное положение и полицейские методы составляют прочное ядро и центральный элемент нового имперского права» [1, с. 38]. Авторы считают верным, хотя и недостаточным, «определение формирующейся имперской власти как науки управления порядком, основанной на практике справедливой войны в целях разрешения непрестанно возникающих чрезвычайных ситуаций» [1, с. 32], «юридическое право на применение чрезвычайного положения и возможность использования полицейских сил являются двумя изначальными координатами, определяющими имперскую модель власти» [1, с. 31]. Право полиции, как пишут авторы, просто следует из чрезвычайного положения; если оно постоянно, то «соответственно, мы можем увидеть изначальный неявный источник имперского права в действиях полиции и в ее способности к установлению и поддержанию порядка. Легитимность имперского порядка служит обоснованием использования полицейской власти, и в то же самое время действия глобальных полицейских сил демонстрируют реальную эффективность имперского порядка» [1, с. 31]. То есть мы имеем фигуру «самообоснования» имперской власти через справедливую войну.
2) «Вопрос о справедливости и мире в действительности решен не будет: мощь нового имперского устройства никогда не найдет своего воплощения в консенсусе, который будет принят массами» [1, с. 34]; «Империя рождается и существует как кризис» [1, с. 34]. То есть заявленное содержание имперского порядка, справедливость, недостижима в принципе в этой «форме»; легитимность, основанная на имперском праве как «высшем синтезе» формального права и морали, таким образом, есть «эффект идеологии», который, впрочем, при «обществе контроля», как его, вслед за Фуко, описывали Хардт – Негри, не имеет границы во времени.
3) Если второе обстоятельство относилось скорее к «содержанию» имперского порядка, то третье – к его форме. Имперская форма всегда находится в состоянии перехода. Хардт и Негри пишут, что способом существования империи является разложение потому, что это, согласно авторам концепции, оказывается «бессубстанциальной формой»; империя определяется как «паразит»: «Массы являются реальной производительной силой нашего социального мира, тогда как Империя оказывается просто аппаратом захвата, существующим лишь за счет витальности масс. Империя – это, как сказал бы Маркс, паразитическая власть накопленного мертвого труда, озабоченная лишь тем, чтобы выжать побольше крови из труда живого» [1, с. 70]; «в то время как власть заявляет о себе как о наднациональной силе, она выглядит лишенной какой-либо реальной опоры, или, скорее, ей не хватает мотора, движущего ее вперед. Таким образом, господство биополитического контекста Империи нужно рассматривать в первую очередь как машину на холостом ходу, машину, рассчитанную на внешний эффект, машину – паразит» [1, с. 70].
Наконец, разложение, смешение есть просто способ существования Империи: «Мы считаем разложение скорее не случайностью, но необходимостью. Или, точнее, Империя требует, чтобы все отношения были случайными. Имперская власть основана на разрыве всякого ясно установленного онтологического отношения. Разложение есть просто знак отсутствия любой онтологии. В онтологическом вакууме разложение становится необходимым, объективным. Имперский суверенитет расцветает на преумножении противоречий, которые порождаются разложением; он стабилизируется своей нестабильностью, своими примесями и смешением; он успокаивается паникой и беспокойством, которые он постоянно порождает. Разложение является именем вечного процесса перемен и метаморфоз, антифундаментальным фундаментом, деонтологическим способом бытия» [1, с. 192].
Империя универсальна (не имеет границ в пространстве и времени, как было сказано); «в переходе от современности к постсовременности и от империализма к Империи различие между внутренним и внешним постепенно уменьшается» [1, с. 178]. Снятие границы между «публичным и приватным» [1, с. 179], определяющей для классического либерального понимания политики, и «суверенных границ» национальных государств вместе с претензией Империи на установление не просто политического, но морально-политического порядка лежит в основании «права на вмешательство» (которое уже нельзя определять понятием «интервенции»): «право на вмешательство» рассматривается как одно из «базовых» в новом имперском праве. Требование «справедливости», исходящее от наднациональных институтов разного уровня и профиля («эти организации стремятся выделить всеобщие потребности и защитить права человека. В их риторике и действиях враг сначала определяется как нужда, недостаток, лишения, и своей деятельностью они стремятся защитить людей от чрезмерных страданий, а затем признается, что враг – это грех» [1, с. 47]) универсализируется как «право» империи вмешиваться везде, где обнаружится угроза новому имперскому порядку, таким образом, что «моральное вмешательство становится передовым отрядом сил имперской интервенции» [1, с. 47]; «моральное вмешательство часто служит первым актом, готовящим сцену для военной интервенции» [1, с. 48]. Это есть один из «аспектов» ставшей перманентной «справедливой войны»: «Справедливая война находит эффективное подкрепление со стороны “моральной полиции” подобно тому, как действенность имперского права и его легитимное функционирование поддерживаются необходимым и постоянным применением полицейской власти» [1, с. 48]. А поскольку «любой мятеж, любое восстание, врывающееся в порядок имперской системы, вызывает потрясение всей системы в целом» [1, с. 69], что предполагается «сетевой» природой имперского порядка, то «в наши дни американским идеологам все сложнее назвать одного, главного врага; скорее, кажется, что многочисленные и неуловимые враги находятся повсюду» [1, с. 181], и, как мы сказали (вслед за Хардтом-Негри), их вместе квалифицируют как террористов. Антитеррористическая война есть современное название справедливой войны как постоянного состояния имперского порядка, одновременно способ его функционирования и легитимации.
По Хардту – Негри, «субстанциональным» противником Империи являются массы, которые одновременно, как мы видели, есть, по определению авторов, «субстрат» самой Империи (ее «подлинное содержание» – универсализация производства как воспроизводства, глобальный рынок, которые тоже фундируются новым характером «множества», массы, – эти вопросы не входят в горизонт нашего рассмотрения в данной статье). Однако они, массы, не «опознаются» как подлинные враги (может быть еще и потому, что лишены любой репрезентации, а враг должен быть «представлен). Враг, то есть преступник, – любой, угрожающий имперскому порядку, суверенитету; сегодня «представленными» оказываются два основных врага. Во-первых, то, что получило название «фундаментализма» в идеологии и, соответственно, социальные группы, которым он «приписывается»; особую «привилегию» здесь получил (в силу причин, которые не входят в предмет нашего анализа) «исламский фундаментализм» и «терроризм»: против него, собственно, и объявлена в 2001 году «антитеррористическая война». Во-вторых (авторы книги знают об этих врагах; как «природные» враги имперского порядка они являются и «врагами» тех сил, от имени которых выступают сами Хардт – Негри), это национальные суверенные государства, имеющие активную или пассивную возможность сопротивляться включению в имперский порядок. Первые – собственно квалифицируются как «террористические государства» (время от времени, пока имеют возможность нанести Империи «неприемлемый ущерб», и «окончательно», когда эту способность утрачивают: Иран, Северная Корея, во время ослабления – Россия; чаще используется термин «государства-изгои»); вторые – так называемые «несостоятельные государства»: речь идет о тех странах третьего мира (в основном, в Африке), которые после распада колониальной системы так и не смогли стабилизироваться, то есть эффективно осуществлять суверенитет в своих границах. Те и другие – «законный» объект интервенции.
К «государствам-изгоям» и «несостоятельным государствам» мы еще вернемся в конце нашего рассмотрения антитеррористической войны. Что же касается фундаментализма, одному из вариантов которого была, собственно, объявлена антитеррористическая война, то Хардт – Негри обращают на него особенное внимание (книга писалась и была опубликована до 2001 года): «С момента распада Советского Союза великие идеологи геополитики и теоретики конца истории постоянно видели в различных видах фундаментализма основную угрозу мировому порядку и стабильности» [1, с. 143]. Авторы полагают, что «фундаментализм, однако, является бессодержательной и уводящей от сути дела категорией, которая сваливает в одну кучу широкий спектр различных по существу феноменов» [1, с. 143]. Неправильным является представление о том, что фундаменталистские идеологии и движения «несут возрождение изначальных идентичностей и ценностей» [1, с. 143]; авторы полагают, напротив, что более точно и более плодотворно понимать различные виды фундаментализма не как воссоздание мира, каким он был до эпохи современности, но скорее как мощное отрицание происходящего ныне исторического перехода» [1, с. 143] и в этом смысле «различные виды фундаментализма являются симптомом перехода к Империи» [1, с. 143]. Фундаментализм определяется как антимодернизм и может быть лучше понят «не как домодернистский, но как постмодернистский проект» [1, с. 145]. Основной характеристикой исламского фундаментализма[2] является «отрицание современности как оружия евро-атлантической гегемонии» [1, с. 145]. Авторы подчеркивают, что «в этом отношении исламский фундаментализм является, конечно, парадигмальным явлением» [1, с. 145–146]. От постмодернистского дискурса фундаменталистский, утверждают Хардт – Негри, отличается тем, что «в значительной мере упрощая, можно утверждать, что постмодернистские дискурсы прежде всего обращены к победителям в процессе глобализации, а фундаменталистские – к проигравшим» [1, с. 146]. Следует, однако, иметь в виду, что «привилегированный преступник/террорист», каковым сейчас для Империи является исламский террорист[3], есть, скорее, функция/место в системе имперского порядка, определяемое решением суверена (как бы постсовременно его ни понимать). Таковым может оказаться кто угодно: нормальность тотальной войны для имперского порядка обусловливает «нормальность» исключения (о конститутивном значении исключения для порядка, ссылаясь на Агамбена, мы говорили).
Итак, можно подвести некоторый промежуточный пока итог. Во-первых, следует определить, к какому из названных выше (в смысле с М. Вебера) типов легитимации (смешению идеальных типов) относится легитимация имперского порядка. Хардт – Негри последовательно не ставят этого вопроса, поскольку парадигмальность нового имперского порядка предполагает утрату значения всех понятий, определявших «прошлое» состояние мира и политики. Для нас же, не связанных столь жесткими установками, вопрос представляется не лишенным интереса. Ближе всего легитимация имперского порядка к легальному типу М. Вебера: его легитимность сродни легитимности бюрократии у немецкого социолога. Хардт и Негри в другой своей работе [см.: 9] специально задаются вопросом, из каких источников может взяться легитимность международных организаций, транснациональных корпораций и т. п., и прямо утверждают, что их легитимность, производная от легитимности национальных правителей, призрачна в тем большей степени, чем дальше зашел кризис национального суверенного государства и кризис политической репрезентации. Но это для авторов не суть: «машинная легитимация», как мы видели выше, полагается вполне достаточной для эффективного управления, правовых и силовых гарантий имперского порядка. Во-вторых, еще раз укажем, что для Империи чрезвычайное положение, антитеррористическая война есть норма, это относится к природе «имперского порядка». Имманентность имперского порядка истребительна; если воспользоваться термином Ж. Бодрийяра [см.: 16] она имплозивна; не имеющая предела во времени и пространстве справедливая антитеррористическая война есть «дифференциальный признак» имперского порядка, а ее завершение (если оставаться в пределах имманентности) мыслимо как имплозия империи, в тот «момент», когда исчезнет пространство экспансии.
Вторую, либеральную, модель глобальной империи, можно охарактеризовать кратко, во-первых, тем, что в ней не предусмотрено «места» для антитеррористической войны (именно так: антитеррористическая война подразумевается как факт, но «выносится» за пределы теоретического анализа порядка империи; антитеррористическая война есть в этом случае такое в точном смысле конститутивное исключение, которое является «слепым пятном» теории); во-вторых, тем, что, в сравнении с моделью, предложенной Хардтом – Негри, либеральная модель «одномерна». Мы выбрали в качестве примера книгу Д. Лала [см.: 2] «Похвала империи» не просто потому, что она наиболее показательна, «репрезентативна», но и потому, что ее автор – не просто ученый-исследователь, но и функционер глобального имперского порядка. Мы имеем дело с идеологией в точном смысле: так представляет себя (самому себе и «всем») глобальный имперский порядок.
1) Империя – «естественное состояние»: «Правилом для международной системы были имперские системы» [2, с. 9].
2) Имперская система есть логическое завершение «глобализационных процессов», порядок, «необходимый для мира и процветания» [2, с. 8]. В основе империи – именно экономическая глобализация, которая есть факт, долженствующий быть признанным и облеченным в соответствующую политическую и юридическую форму.
3) Имперский порядок понимается строго как «всемирное господство» США: «Имперская роль была навязана США» [2, с. 8]; «империи возникали всякий раз, когда международное анархичное сообщество государств уступало место державе, располагающей экономическими и военными средствами для утверждения своей гегемонии» [2, с. 14].
Книга доказывает, что «со времен падения Римской империи никакая другая имперская держава не обладала потенциалом, сопоставимым с тем, которым располагают сегодня США» [2, с. 14]. Четвертое. Имперский порядок (как и у Хардта – Негри) представляет собой осуществленный синтез права и нравственности, характеризуется как «новый международный моральный порядок» [2, с. 14], устанавливаемый США. Существенным отличием от «демократической» модели Хардта – Негри является то, что по отношению к глобальному имперскому порядку не предполагается никакой «освободительной альтернативы»: он есть завершенный и совершенный нравственно-политический порядок. То есть, при несомненном сходстве описаний, различие можно полагать прежде всего в «модальности», и это существенно: враги такого порядка, если можно так сказать, «еще больше враги» (чем у Хардта – Негри), еще больше преступники. Антитеррористическая война, о которой не говорится, таким образом, становится «более справедливой» (более тотальной, абсолютной), что, конечно, не признается, так как, в отличие от Хардта – Негри, справедливость полагается осуществленной, а значит и война относится к области досадных фактов, а не есть принцип. О легитимации имперского порядка специального вопроса тоже не стоит; он легитимен как таковой, как справедливый порядок, как самолегитимация (впрочем, всегда наличествует ссылка на «процветание» и экономическую необходимость и эффективность: легитимация через «благосостояние», через отсылку к необходимости глобальной экономики). В политическом отношении такой способ легитимации ничтожен, но ничьего согласия и не требуется, оно предполагается как функция того же «благосостояния» и справедливости.
В 20–30-е годы ХХ века К. Шмитт создал теорию «больших политических пространств», единственное до сегодняшнего дня концептуальное обоснование «политической многополярности». Теория детально изложена Шмиттом в работе «Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил» [см.: 3]. Следует иметь в виду, что первая публикация работы относится к 1939 году, четвертое издание, последнее, в которое вносились правки – к 1941. Работа не могла быть свободной от условий своего времени, обстоятельства ее написания и симпатии автора, безусловно, создают предубеждение против него, некоторые высказывания считаются просто неприемлемыми, термины, как мы уже сказали, табуированы. Однако идея, изложенная в работе, сохраняет свое значение безотносительно к этим обстоятельствам, что, повторим еще раз, подтверждается широким обсуждением, все более активным в последнее время. Шмитт, безусловно, не «друг», если принять его оппозицию «друг-враг» как конститутивную для «области политического» как такового, но он в любом случае – «законный враг», то есть с ним можно спорить и к нему следует прислушиваться.
Международный порядок еще и до сих пор – это порядок суверенных государств. «Любой порядок оседлых народов, живущих вместе или рядом друг с другом, принимающих друг друга в расчет, определяется не только персонально, но является в то же время территориально конкретным порядком пространства. Необходимые элементы пространственного порядка до сих пор заключались главным образом в понятии государства, которое кроме персонально определенной сферы господства означает также, и даже в первую очередь, некоторое территориальное ограничение и территориально замкнутое единство» [3, с. 482]. Шмитт считает необходимым ввести понятие «большое пространство»: «Для нас в слове большое пространство выражается изменение представлений о пространстве Земли и самих размеров пространства Земли, которое овладело сегодняшним всемирно-политическим развитием. В то время как “пространство” наряду с различными специфическими значениями сохраняет всеобщий, нейтральный, математико-физический смысл, “большое пространство” является для нас конкретным современным историко-политическим понятием» [3, с. 483]. Это представление о «большом пространстве» возникло не вдруг. Шмитт прослеживает его историю (подробнее не в цитируемой работе, но в книге «Номос Земли» [см.: 17], изданной уже после мировой войны), начиная с великих географических открытий, полагая и доказывая, что для современности своеобразным смысловым «центром мира» является Европа (европоцентризм есть факт права, в том числе международного права). Во-первых, сюда относятся «линии», разделяющие права на колонизацию в Новом свете, закрепленные первоначально папскими буллами; «линии дружбы» более позднего времени, разделяющие пространство ничем не ограниченной, прежде всего морской, войны, от территорий «оберегаемой войны», от собственно Европы; понятие колонии также относится к этой группе. В целом это «граница», выделяющая Европу как особую, привилегированную область правового порядка. Во-вторых, внутри Европы тоже действует порядок больших пространств. Системы европейского равновесия; региональные пакты (Антанта) до и после первой мировой войны; особый статус нейтральных держав; договоры, определяющие совместную деятельность (например, в Арктике; действуют до сих пор), – все это относится к названному случаю. В-третьих, образование больших пространств на основе Доктрины Монро (на нее вдруг стали ссылаться американские политики в 2019 году в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы), Доктрины Вильсона (особенно в части устройства Восточной Европы после первой мировой войны; право наций на самоопределение, отнесенное в первую очередь к ситуации распада Австро-Венгерской империи); сюда же относится не имеющий названия, но действовавший полтора века «принцип безопасности коммуникаций Британской мировой империи». Вне зависимости от конкретного содержания, все перечисленное было способом «ограничивания», формирующим «большие пространства». Наконец, следует помнить также и о геополитических теориях (и их предшественниках), вводящих в научный оборот – например, представление о «естественных границах», понимаемых не только «географически». Теория «замкнутого торгового государства» И. Г. Фихте [см.: 18], или концепция американского ученого У. У. Виллоуби, которого упоминает Шмитт, вводившего понятие «демографического права на землю» [3, с. 491]. Растущие народы, которым становится «мало места», например, Япония, как у названного автора, приобретает право на захват «пустой земли», причем «пустота» эта та же самая, что и пустота незаселенных западных земель в Америке (индейцы – природное явление, об этом вспоминают также и Хардт – Негри [1, с. 162–163]). Сюда же следует отнести теорию «жизненного пространства», ставшую печально известной именно в то время, когда опубликована работа Шмитта. Все это можно рассматривать как «предысторию» концепта «большого пространства» и соответствующей ему «действительности»: мы не будем подробно говорить о методологии соотнесенности одного с другим, в данном случае это не имеет принципиального значения.
Непосредственными «предпосылками» теории «большого пространства» Шмитт считает следующие. Во-первых, Шмитт уже в 30-е годы видит, что развитие экономики (еще в ее классическом, «современном», состоянии) предполагает формирование «больших пространств»: «Возникает технико-индустриально-хозяйственный порядок, в котором преодолены изолированность малого пространства и разобщение прежнего энергетического хозяйства» [3, с. 485]; процессы, аналогичные тем, что происходят в энергетике, свойственны «народному хозяйству» (здесь имеется в виду терминология Шмоллера) как таковому. Таким образом, «большое пространство – это возникающая из обширной современной тенденции развития область человеческого планирования, организации и активности» [3, с. 486]. Во-вторых, фактом является различие народов и государств (если народ еще не создал своего государства) в силе и способности к обеспечению собственного существования. Некоторые просто не могут быть самостоятельными и должны получить гарантии извне. Среди государств существует естественная иерархия, которая «принципиально игнорировалась наукой международного права» [3, с. 534]; в политико-исторической действительности само собой разумеется всегда были ведущие великие державы; был «концерт европейских держав» и в Версальской системе «союзные главные державы» [3, с. 534]. Порядок больших пространств – простая концептуализация «того, что есть». В-третьих, история и культура обусловливают близость, или, напротив, «чуждость» различных народов и их государств, что не может без последствий (в виде войн, восстаний и т. п.) игнорироваться при структурировании политического пространства.
Шмитт утверждает, что то, что он называет «порядками рейхов» (речь у Шмитта никогда не идет об одном, Немецком рейхе), решает названные (и еще не названные) задачи по структурированию пространства.
1) В рейхе соединяются понятия порядка и местоположения [3, с. 570], то есть рейх представляет собой не «пустое», но качественно определенное пространство: «Обозначение “Рейх”, которое здесь предлагается, лучше всего характеризует международно-правовое содержание связи большого пространства, народа и политической идеи, которая определяет собой наш исходный пункт. Обозначение “рейхи” ни в коем случае не упраздняет своеобразную особость каждого отдельного из этих рейхов» [3, с. 531].
2) В концепции зафиксирована способность качественно определенного организованного пространства к самостоятельности (к автономии, то есть к свободе): «К новому порядку Земли и вместе с тем к способности быть сегодня субъектом международного права первого ранга относится огромная мера не только “естественных”, в смысле от природы сразу данных свойств, к этому относится и сознательная дисциплина, усиленная организация и способность создать своими силами и уверенно удерживать в своих руках осиливаемый только с большим напряжением человеческой силы разума аппарат современного общественного строя» [3, с. 541].
3) Рейх, по Шмитту, является политической формой, соответствующей завершению процесса становления народа (в этом отношении национальное государство можно оценивать как форму, предшествующую и несовершенную прежде всего в силу незрелости самого «субстрата» – народа). Народ «в себе» и «для себя» (каковым он стал) предполагает в качестве своей собственной политической формы рейх: «Новое понятие порядка нового международного права – это наше понятие рейха, которое исходит из движимого народом, народного порядка большого пространства. В нем мы имеем сердцевину нового международно-правового образа мысли, который исходит из понятия народа и который вполне сохраняет содержащиеся в понятии государства элементы порядка, но который в то же время в состоянии справиться с сегодняшними представлениями о пространстве и с настоящими политическими жизненными силами, который может быть “планетарным”, то есть учитывать пространство Земли, не уничтожая народы и государства и не стремясь, как империалистическое международное право западных демократий, из неизбежного преодоления старого понятия государства в универсалистски-империалистическое мировое право» [3, с. 546].
Мы видим, что понятие мирового имперского порядка было вполне известно Шмитту, и связывал он его «реализацию» именно с теми самыми акторами, к которым этот порядок относят Хардт – Негри. То есть концепция рейхов уже тогда противопоставлялась Империи. Один из главных аргументов, имеющих именно ценностную природу (это важно в связи с порядком легитимации Империи через ценность, мораль, справедливость), является сохранение историко-культурного своеобычия (оно ценно само по себе, но и «универсально ценно» как почва): «Другие необходимые сегодня понятия пространства – это в первую очередь почва, которая в специфическом смысле была бы сопряжена с народом, и потом подчиненное рейху, выходящее за пределы народной почвы и государственной территории большое пространство культурного и экономически-индустриально-организационного излучения, распространения. Рейх – это не просто увеличенное государство, так же как большое пространство – это не увеличенное малое пространство. Рейх также не тождественен большому пространству, но каждый рейх имеет большое пространство и благодаря этому возвышается как над государством, пространственно характеризуемым исключительностью своей государственной территории, так и над народной почвой отдельного народа. Властное образование без этого большого пространства, которое увенчивает государственную территорию и народную почву, не было бы рейхом» [3, с. 552]. Вообще же, по Шмитту, imperium «имеет зачастую значение универсалистского, охватывающего мир и человечество, то есть наднационального образования (если и не должно быть, что друг с другом могут иметься многие и разнородные империи)» [3, с. 529]; что же касается рейха, то он «определяется существенно народно и является существенно неуниверсалистическим, правовым порядком на основе уважения каждой народности» [3, с. 529]. Таким образом, определение рейха, предложенное К. Шмиттом, следующее: «Порядок больших пространств входит в понятие рейха, которое здесь в качестве специфически международно-правовой величины нужно ввести в международно-правовое научное обсуждение. Рейхами в этом смысле являются ведущие и несущие силы, политическая идея коих распространяется в определенном большом пространстве и которые относительно этого большого пространства принципиально исключают интервенцию сил, принадлежащих чужому пространству» [3, с. 527]. В политико-правовом отношении порядок рейхов предполагает, по Шмитту, четыре основных области/уровня отношений между и внутри них (принципиальное различие внутреннего и внешнего при этом удерживается и постоянно актуализируется): «Явствуют четыре различных способа мыслимых правовых отношений: Во-первых, отношения между большими пространствами в целом, поскольку эти большие пространства, само собой разумеется, не должны быть герметично изолированными блоками, но и между ними происходит экономический и прочий обмен, и в этом смысле имеет место “мировая торговля”; во-вторых, межрейховые отношения между ведущими рейхами этих больших пространств; в-третьих, отношения между народами внутри большого пространства и, наконец, – с оговоркой невмешательства чуждых пространству сил – международные отношения между народами различных больших пространств» [3, с. 545].
Вопрос о легитимации рейха, интересный сам по себе, не имеет особого значения для проблематики нашей статьи, так как целиком находится в «горизонте современности» и вполне пригоден для анализа посредством разработанного М. Вебером в теории легитимности инструментария. Важно указать, что в этом порядке нет места ни для чего похожего на антитеррористическую войну. Более того, порядок традиционных суверенитетов гарантирует сохранение (в теории, конечно) «оберегаемой войны», «законного врага», хотя и допускает возможность гражданской войны, бунта и т. п., но именно как «вписанных» в иной, нежели глобальная империя, порядок. Вызовом порядку рейхов является так называемая революционная война, – но это уже предмет специального рассмотрения. Порядок между суверенами и сохранение мира укладывается в логику, замечательно описанную Р. Ароном [см.: 20] в работе «Война и мир между народами». Суверены находятся в естественном состоянии; это – состояние войны (по Гоббсу [см.: 21; 22]); но именно поэтому достигнутое равновесие обеспечивает пусть непрочный, но мир (логика двухполярного мира подробнейшим образом и многополярного мира лишь фрагментарно представлена в названной работе Арона). Напротив, Империя как единственный суверен, как порядок мира и справедливости – есть, как мы показали, порядок непрерывной и вечной войны, в том числе и с пребывающими в кризисе, но упорно цепляющимися за существование национальными суверенными государствами (описание с точки зрения Хардта – Негри; с точки зрения Шмитта то же самое следует описывать по-другому: область решения). Субъекты-государства, взявшие на себя заботу о своем суверенитете, должны быть достаточно сильными и иметь решимость противостоять Империи – но для чего? Этот вопрос мы оставляем открытым; следует лишь еще раз напомнить, что любая тень сомнения в лояльности Империи является законным основанием для гуманитарной, военной – любой, какой угодно, интервенции, остановить которую может только способность «нанести непоправимый ущерб» (все равно какой).
Мы не ставим вопроса о том, какой из двух порядков, Империи или «многополярного мира», действителен и актуален: это область решения, но обнаружить некоторые последствия такого решения нам ничто не мешает, – опытом исследования этого является данная статья.
Список литературы
1. Хардт М., Негри А. Империя. – М.: Праксис, 2004. – 440 с.
2. Лал Д. Похвала империи: Глобализация и порядок. – М.: Новое издательство, 2010. – 364 с.
3. Шмитт К. Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил // Номос Земли в праве народов publicum europaeum. – СПб.: Владимир Даль, 2008. – С. 479–572.
4. Мюнклер Г. Империи: Логика господства над миром: от Древнего Рима до США. – М.: Кучково поле, 2015. – 400 с.
5. Каспэ С. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. – М.: РОССПЭН, 2001. – 256 с.
6. Шмитт К. Теория партизана. – М.: Праксис, 2007. – 301 с.
7. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4 т. Т. 1. Социология. – М.: ВШЭ, 2016. – 445 с.
8. Шмитт К. Легальность и легитимность // Понятие политического. – СПб.: Наука, 2016. – С. 171–279.
9. Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. – М.: Культурная революция, 2006. – 559 с.
10. Бодрийяр Ж. Символический обмен и сметь. – М.: Добросвет, КДУ, 2006. – 389 с.
11. Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. – СПб.: Наука, 2011. – 544 с.
12. Шмитт К. Политическая теология. // Политическая теология. – М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. – С. 7–98.
13. Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории. – СПб.: Наука, 2007. – 643 с.
14. Ролз Д. Теория справедливости. – М.: ЛКИ, 2010. – 536 с.
15. Агамбен Д. Homo sacer. Чрезвычайное положение. – М.: Европа, 2011. – 148 с.
16. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. – Екатеринбург: УрФУ, 2000. – 96 с.
17. Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. – СПб.: Владимир Даль, 2008. – 630 с.
18. Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство // Сочинения в 2-х томах. Т. 2. – СПб.: Мифрил, 1993. – С. 225–357.
19. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: Издательство АСТ, 2003. – 576 с.
20. Арон Р. Мир и война между народами. – М.: Nota Bene, 2000. – 880 с.
21. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. // Сочинения в 2-х томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1991. – 731 с.
22. Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. – СПб.: Владимир Даль, 2006. – 300 с.
References
1. Hardt M., Negri A. Empire [Imperiya]. Moscow: Praksis, 2004, 440 p.
2. Lal D. In Praise of Empires: Globalization and Order [Pokhvala imperii: Globalizatsiya i poryadok]. Moscow: Novoe izdatelstvo, 2010, 364 p.
3. Schmitt C. The Grossraum Order of International Law with a Ban on Intervention for Spatially Foreign Powers [Poryadok bolshikh prostranstv v prave narodov, s zapretom na interventsiyu dlya chuzhdykh prostranstvu sil]. Nomos Zemli v prave narodov publicum europaeum (The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum). St. Petersburg: Vladimir Dal, 2008, pp. 479–572.
4. Münkler H. Empires: The Logic of World Domination from Ancient Rome to the United States [Imperii: Logika gospodstva nad mirom: ot Drevnego Rima do SShA]. Moscow: Kuchkovo pole, 2015, 400 p.
5. Kaspe S. Empire and Modernisation: General Model and Russian Specificity [Imperiya i modernizatsiya: Obschaya model i rossiyskaya spetsifika]. Moscow: ROSSPEN, 2001, 256 p.
6. Schmitt C. The Theory of the Partisan [Teoriya partizana]. Moscow: Praksis, 2007, 301 p.
7. Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. In 4 vol. Vol. 1: Sociology [Khozyaystvo i obschestvo: ocherki ponimayuschey sotsiologii. V 4 t. T. 1: Sotsiologiya]. Moscow: VShE, 2016, 445 p.
8. Schmitt C. Legality and Legitimacy [Legalnost i legitimnost]. Ponyatie politicheskogo (The Concept of the Political). St. Petersburg: Nauka, 2016, pp. 171–279.
9. Hardt M., Negri A. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire [Mnozhestvo: voyna i demokratiya v epokhu imperii]. Moscow: Kulturnaya revolyutsiya, 2006, 559 p.
10. Baudrillard J. Symbolic Exchange and Death [Simvolicheskiy obmen i smert]. Moscow: Dobrosvet, KDU, 2006, 389 p.
11. Foucault M. Security, Territory, Population: Lectures at the College De France, 1977–1978 [Bezopasnost, territoriya, naselenie. Kurs lektsiy, prochitannyy v Kollezh de Frans v 1977–1978 uchebnom godu]. St. Petersburg: Nauka, 2011, 544 p.
12. Schmitt C. Political Theology [Politicheskaya teologiya]. Politicheskaya teologiya (Political Theology). Moscow: Kanon-Press-Ts, 2000, pp. 7–98.
13. Luhmann N. Social Systems [Sotsialnye sistemy: Ocherk obschey teorii]. St. Petersburg: Nauka, 2007, 643 p.
14. Rawls J. A Theory of Justice [Teoriya spravedlivosti]. Moscow: LKI, 2010, 536 p.
15. Agamben G. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life [Homo sacer. Chrezvychaynoe polozhenie]. Moscow: Evropa, 2011, 148 p.
16. Baudrillard J. In the Shadow of the Silent Majorities, Or, the End of the Social [V teni molchalivogo bolshinstva, ili konets sotsialnogo]. Ekaterinburg: UrFU, 2000, 96 p.
17. Schmitt C. The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum [Nomos Zemli v prave narodov publicum europaeum]. St. Petersburg: Vladimir Dal, 2008, 630 p.
18. Fichte J. G. The ClosedCommercialState [Zamknutoe torgovoe gosudarstvo]. Sochineniya v 2 t. T. 2. (Works in 2 vol. Vol. 2). St. Petersburg: Mifril, 1993, pp. 225–357.
19. Huntington S. P. The Clash of Civilizations [Stolknovenie tsivilizatsiy]. Moscow: Izdatelstvo AST, 2003, 576 p.
20. Aron R. Peace and War between Nations [Mir i voyna mezhdu narodami]. Moscow: Nota Bene, 2000, 880 p.
21. Hobbes T. Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil [Leviafan, ili materiya, forma i vlast gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo]. Sochineniya v 2 t. T. 2. (Works in 2 vol. Vol. 2). Moscow, Mysl, 1991, 731 p.
22. Schmitt C. The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol [Leviafan v uchenii o gosudarstve Tomasa Gobbsa].St. Petersburg: Vladimir Dal, 2006, 300 p.
[1] Для Европы; вопрос о том, выработаны ли рядоположенные названным формы государства вне Европы, как и вопрос, можем ли мы назвать не-европейские политические формы «государствами», является дискуссионным до сих пор; следует лишь учитывать экспансию европейских форм по всему миру: включение в «мировое сообщество» до сих пор обусловлено «признанием», в том числе, критерием является «реализация» европейской формы государства.
[2] «В наши дни в прессе термин “фундаментализм” зачастую редуцирует различие социальных образований, объединяемых этим именем, и используется исключительно в отношении исламского фундаментализма» [1, с. 144]; значение легитимации имперского порядка через СМИ нами было охарактеризовано как одно из определяющих, потому подобная «редукция», правомерна она или нет «по существу», является в некотором роде «отрицательной легитимацией»: речь идет о «законном преступнике», если позволительно такое видоизменение концепта «законного врага».
[3] В самом широком смысле, вместе с поддерживающей его инфраструктурой, к которой, если принимается такое решение, – принимать решения есть сущность суверена и его исключительная прерогатива, – причисляются идеологии, коммерческие и общественные организации, государства, поддерживающие террористов и тому подобное – без каких бы то ни было ограничений.
Ссылка на статью:
Мальцев К. Г., Ломако Л. Л. Имперская легитимность и антитеррористическая война // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2020. – № 2. – С. 67–91. URL: http://fikio.ru/?p=4013.
© К. Г. Мальцев, Л. Л. Ломако, 2020.