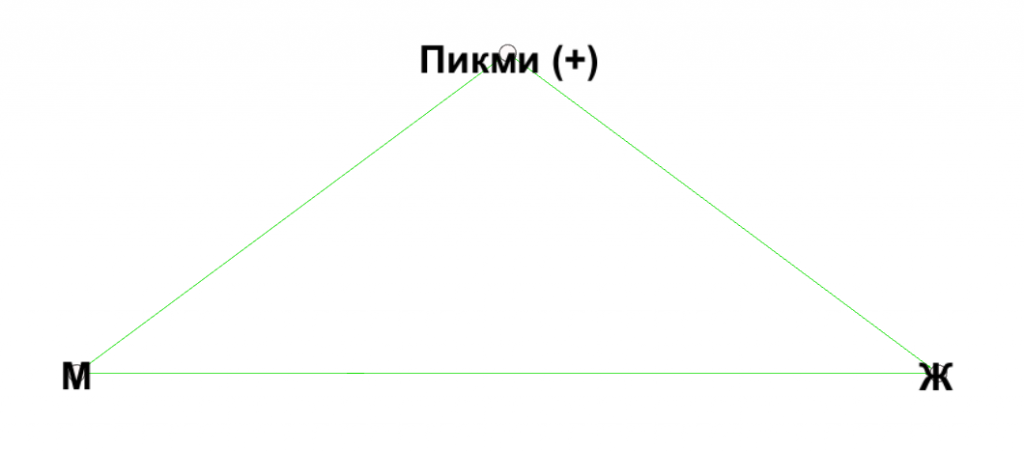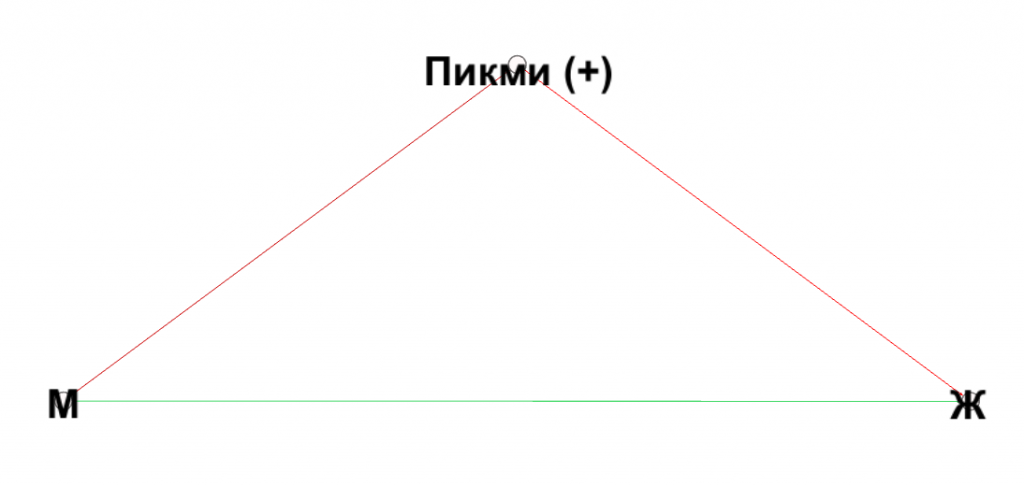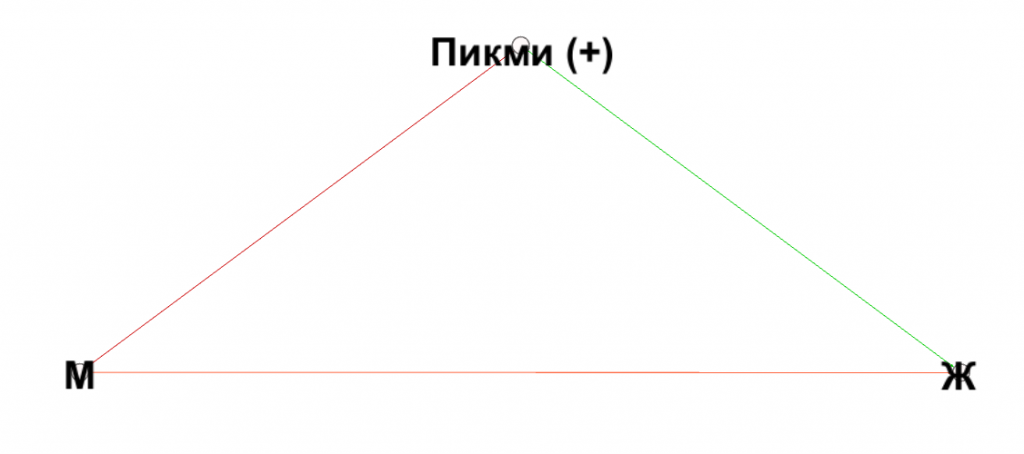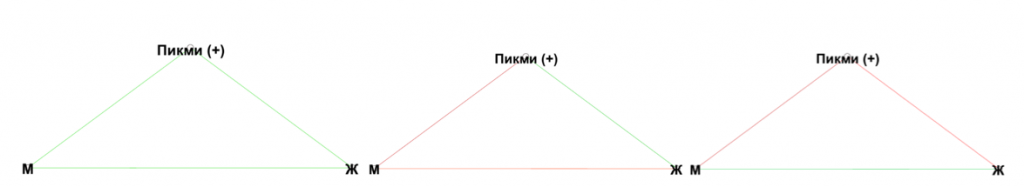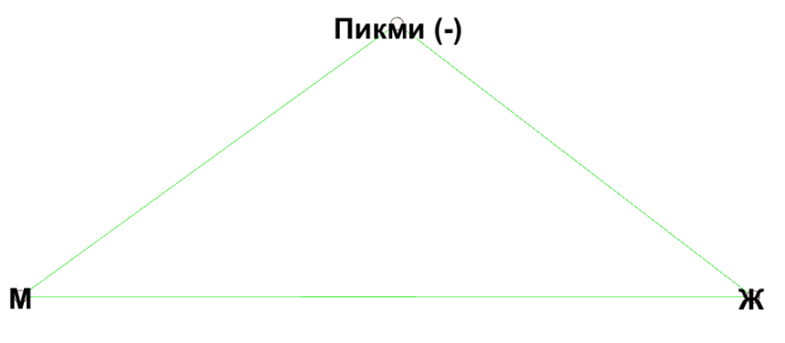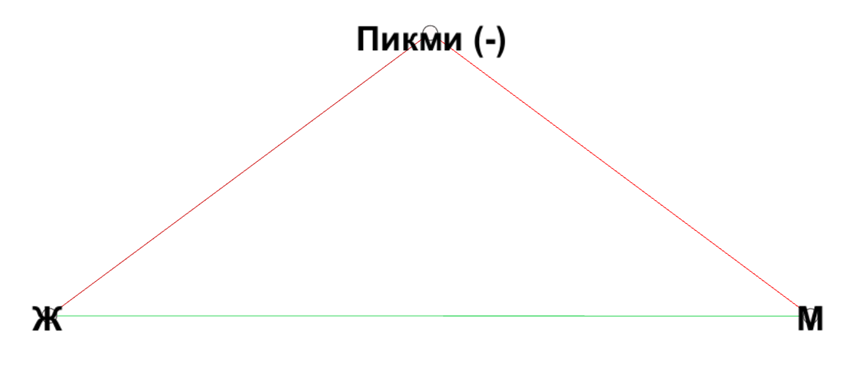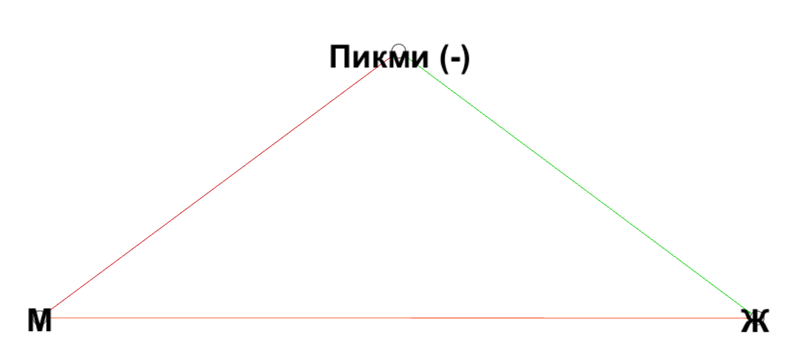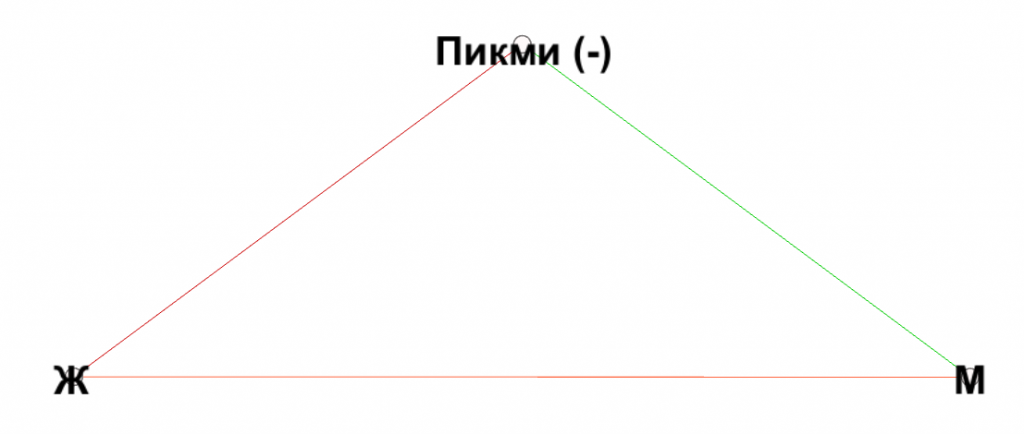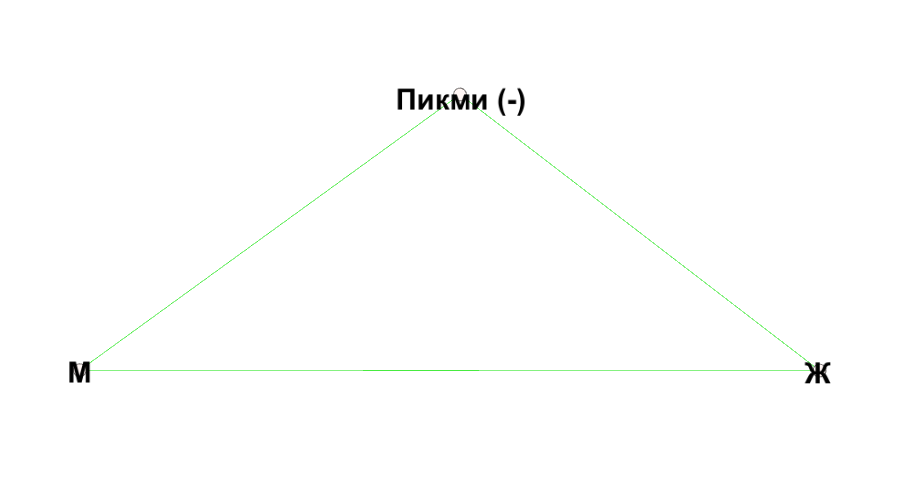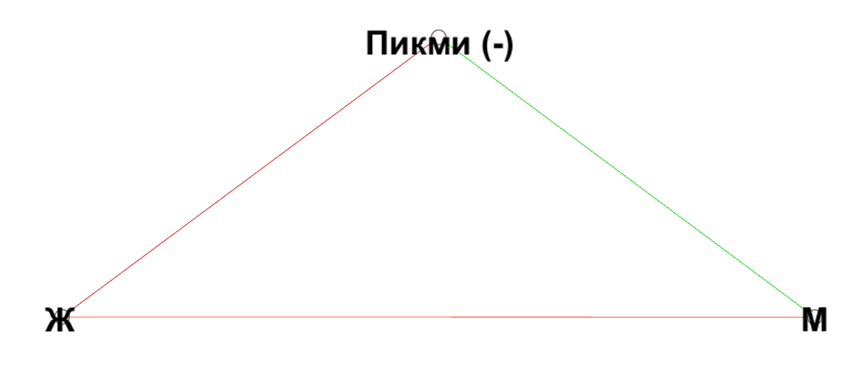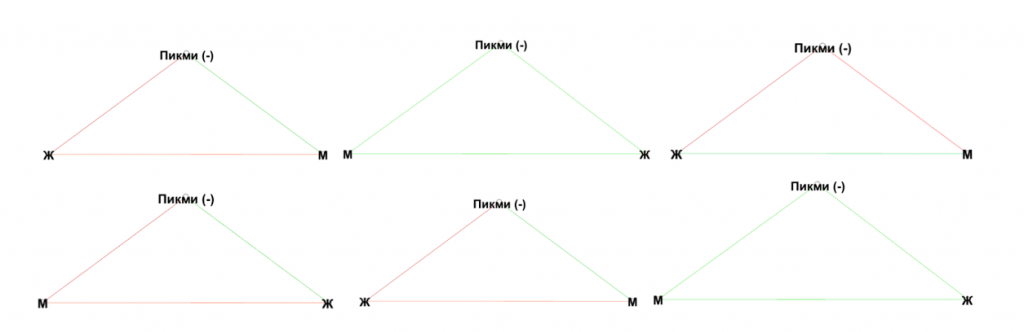Новый номер!
УДК 304.9
Горохов Павел Александрович – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, филиал в Оренбурге, профессор кафедры юридических и гуманитарных дисциплин, доктор философских наук, профессор, Оренбург, Россия.
Email: erlitz@yandex.ru
SPIN-код: 9090-4375
Авторское резюме
Состояние вопроса: Проблема философского осмысления и прогнозирования общества будущего в фантастике братьев Стругацких не часто становилась предметом историко-философского исследования, хотя частично затрагивалась в работах М. Ф. Амусина, Д. М. Володихина и Г. М. Прашкевича, В. Кайтоха, Ю. С. Черниховской, И. Хауэлл. В статье средствами историко-философского анализа впервые целостно проанализированы философские прогнозы Стругацких о вариантах будущего общественного устройства.
Результаты: На основе анализа произведений братьев Стругацких выявлены социально-философские представления писателей о трех вариантах развития общества будущего: коммунистическом (Мир Полдня), капиталистическом (Мир «Хищных вещей») и смешанном (результат конвергенции). Рисуя в своих произведениях определенный общественный уклад, Стругацкие ставили во главу угла представления о добре и зле, которые из этических категорий превращались у них в онтологические, определяющие порядок мироздания, общее и частное, индивидуальное и социальное бытие.
Область применения результатов: Результаты исследования могут быть использованы для преподавания специальных курсов по истории русской философии, философским проблемам мировой литературы, социальному предвидению и прогнозированию.
Выводы: Будущее общество у ранних Стругацких – это мир победившего коммунизма, в котором господствует культ логики, невероятных открытий и героических персонажей. Показанное ими будущее охватывает события от второй половины XX века до середины XXIII века, но писатели не стремились к созданию чётко прописанной хронологии, предпочитая использовать постоянных героев, переходящих из книги в книгу или упоминаемых эпизодически.
В зрелый период творчества у Стругацких в изображении будущего социального устройства стал преобладать пессимизм, проистекавший из более реалистичной оценки природы человека. Отнюдь не все люди способны жить в коммунизме, ибо сама их сущность противоречит бесклассовому общественному строю. С одной стороны, писатели создали сциентистский образ будущего, а с другой – положили в качестве главного регулятора будущего этические начала. С одной стороны, мир будущего описан как гуманный мир гражданского участия, а с другой – показана неизбежность тайной полиции, убивающей невинных людей, как залог существования этого гуманного будущего. С одной стороны, прогресс неизбежен, а с другой – зачастую плохо соотносится с моралью. Стругацкие в своих произведениях показывают, что движение и развитие общества осуществляется только в результате существования и действия разнообразных противоречий.
Ключевые слова: братья Стругацкие; история философии; философская антропология; этика; утопия и антиутопия; духовность; социальное предвидение; актуальное и потенциальное бытие; глобальные проблемы.
Philosophical Understanding of Future Society in the Works of the Strugatsky Brothers
Gorokhov Pavel Aleksandrovich – Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Orenburg Branch, Professor, Department of Legal and Humanitarian Disciplines, Doctor of Philosophy, Professor, Orenburg, Russia.
Email: erlitz@yandex.ru
Abstract
Background: The problem of philosophical understanding and forecasting of future society in the science fiction of the Strugatsky brothers has rarely been the subject of historical and philosophical research, although it has been partially addressed in the works of M. F. Amusin, D. M. Volodikhin and G. M. Prashkevich, W. Kajtoch, Yu. S. Chernikhovskaya, and I. Howell. This article, using historical and philosophical analysis, provides the first comprehensive analysis of the Strugatsky brothers’ philosophical predictions about future social order.
Results: Based on an analysis of the Strugatsky brothers’ works, the authors’ socio-philosophical views on three future societal developments are revealed: communist (The World of Noon), capitalist (The World of Predatory Things), and mixed (the result of convergence). In depicting a specific social order in their works, the Strugatskys prioritized the concepts of good and evil, which they transformed from ethical categories into ontological ones, defining the order of the universe, the general and the particular, and individual and social existence.
Implications: The results of this study can be used to teach specialized courses on the history of Russian philosophy, philosophical problems of world literature, and social foresight and forecasting.
Conclusion: The future society of the early Strugatskys is a world of victorious communism, dominated by the cult of logic, incredible discoveries, and heroic characters. Their depicted future spans events from the second half of the 20th century to the mid-23rd century, but the writers did not strive for a clearly defined chronology, preferring to use recurring characters who appear from book to book or are mentioned sporadically.
In their mature period, the Strugatskys’ depictions of the future social order became increasingly pessimistic, stemming from a more realistic assessment of human nature. Not all people are capable of living under communism, for their very nature contradicts a classless social order. On the one hand, the writers created a scientistic image of the future, while on the other, they established ethical principles as the primary regulator of the future. On the one hand, the world of the future is described as a humane world of civic participation, while on the other, the inevitability of a secret police force killing innocent people is shown as the guarantee of this humane future. On the one hand, progress is inevitable, but on the other, it often has little correlation with morality. In their works, the Strugatsky brothers demonstrate that the movement and development of society occurs only as a result of the existence and action of various contradictions.
Keywords: Strugatsky brothers; history of philosophy; philosophical anthropology; ethics; utopia and dystopia; spirituality; social foresight; actual and potential existence; global problems.
Братья Стругацкие давно признаны уникальным явлением в истории русской и советской литературы. Они создали фантастические вселенные, не только поражающие богатством и смелым полетом фантазии, той «смелостью изобретения», о которой писал еще А. С. Пушкин, но и заставляющие читателя задуматься о тех философских идеях, что открыто вложены авторами в уста их героев или же неявно обнаруживаются в их поступках. Отнюдь не только юбилейная дата (28 августа 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения Аркадия Стругацкого, 1925–1991), пробуждает у деятелей отечественной науки и культуры интерес к феномену Стругацких, ибо этот интерес никогда и не исчезал. Юбилейная дата – лишь повод в очередной раз задуматься над теми философскими проблемами, что поставили писатели на страницах своих произведений, в том числе и о тех проектах будущего общества, которые можно найти на страницах их произведений.
Не случайно советский и британский философ А. М. Пятигорский отметил однажды, что лишь Стругацкие отрефлексировали проблематику второй половины двадцатого столетия. Разумеется, над этой проблематикой размышляли не только Стругацкие, но для философов было бы большой ошибкой занимать позицию интеллектуального снобизма и не принимать в расчет мировоззренческие искания и находки писателей масштаба И. Ефремова, Ч. Айтматова, Ю. Домбровского, братьев Стругацких и других мастеров художественного слова, в романах которых можно найти целые залежи философской мысли. Ведь поиски общественного идеала – проблема перманентная для нашей страны; она остается актуальной для современной России, уже четвертый десяток лет блуждающей на опасных перекрестках отечественной истории в поисках выхода из экзистенциального тупика после распада Советского Союза.
Цель настоящей статьи – выявить социально-философские представления братьев Стругацких о возможных вариантах развития общества будущего. В качестве методологической основы данного исследования используются герменевтический метод как объяснение и реконструкция вложенных в художественный текст смыслов, философская компаративистика и сравнительно-исторический анализ.
Назовем исследователей, работы которых в той или иной степени затрагивали философские взгляды братьев Стругацких, в том числе и их представления о будущем социальном устройстве: филолог М. Ф. Амусин [1; 2; 3], философ А. А. Грицанов [6], ученые и писатели-фантасты Д. М. Володихин и Г. М. Прашкевич [4], польский литературовед, лингвист и критик В. Кайтох [7], политолог Ю. С. Черниховская [22], американский русист И. Хауэлл [23], причем все названные работы акцентируют внимание на наличии глубоких связей в творчестве Стругацких с идеями мировой философии, а американский исследователь научной фантастики и писатель-фантаст Стивен Поттс назвал свою книгу о творчестве Стругацких «Второе нашествие марксистов: диалектические сказания Аркадия и Бориса Стругацких» [26], в которой анализирует влияние на философские представления писателей представителей немецкого идеализма и Маркса как их наследника. К слову, это была первая в мире монография, посвященная исследованию творчества Стругацких, хотя Поттс не знал русского языка и оперировал лишь переводами.
Философия как особая форма человеческой культуры, совмещающая в себе научный и художественный подходы к постижению, освоению и осмыслению человека и мира, не могла не привлечь внимания Аркадия и Бориса – выходцев из образованной семьи, в которой ценилось знание и его главный источник – книга. Отец Натан Залманович (1892–1942) был образованным человеком, убежденным большевиком, но одновременно искусствоведом и библиографом, хорошо разбиравшимся в иконографии. Мать Александра Ивановна (1901–1979) всю жизнь преподавала русский язык и литературу. Поэтому с детства круг чтения Стругацких был обширен, что способствовало формированию литературного вкуса, а позже – когда они сами вступили на тропу писательского ремесла – и собственного стиля.
Братья неоднократно говорили, что учились писать у мастеров русской классической и советской литературы, прежде всего у Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого, И. Ильфа и Е. Петрова. Позже в их жизнь и творчество вошли М. А. Булгаков и Франц Кафка. Очень высоко они ставили стиль Эрнеста Хемингуэя, а позже Джорджа Оруэлла. Не следует забывать, что Аркадий Стругацкий свободно владел японским и английским языками, а Борис знал английский, поэтому братьям были не только доступны важные литературные новинки, но они сами перевели многие шедевры мировой фантастики. Это неизбежно приводило к диффузии мировоззренческих идей и представлений, в том числе и философских.
Аркадий и Борис Стругацкие интересовались не только классической философией, но и изучали труды классиков марксизма-ленинизма – причем именно по зову сердца, а не по комсомольскому долгу. В наши дни недоучки, нападающие на марксизм, забывают о мощных исторических основаниях и источниках марксизма (по В. И. Ленину, таковые суть немецкая классическая философия, английская политическая экономия и французский утопический социализм). Забывают и слова самого Ленина о том, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» [9, с. 305]. А ведь эти слова были лейтмотивом жизни всех талантливых людей в советскую эпоху! Об искренней вере в идеалы коммунизма вспоминали сами братья, в том числе и Борис Стругацкий в своих мемуарах и интервью. В литературу они вошли именно марксистами, верившими в неизбежное наступление коммунизма как бесклассового строя, в котором «все источники общественного богатства польются полным потоком», как было сказано в Программе КПСС.
Именно о третьей Программе КПСС, принятой на XXII съезде КПСС в 1961 году, стоит сказать особо. Литературоведы считают, что на рубеже 50–60-х годов ХХ столетия в СССР появилась философская фантастика – единственная разновидность литературы, в которой способны были возникать и апробироваться практически любые социальные и философские концепции. На наш взгляд, эта Программа – яркий образец именно философско-утопической, а не научной фантастики, ибо в ней было объявлено о скорейшем построении коммунизма – к 80-м годам ХХ столетия. Н. С. Хрущев провозгласил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Автор этих строк, будучи в 1983 году учеником 4 класса, нашел в домашней библиотеке книгу «Материалы XXII съезда КПСС» [11], прочитал ее и принес в школу на урок истории, чтобы спросить учительницу, почему же коммунизм так и не построили в 1980 году. Итог историософского любопытства был печален: к директору школы вызвали родителей и наказали им строже следить за кругом детского чтения.
С другой стороны, в то время эта Программа КПСС выражала подлинные чаяния и надежды первой в мире страны победившего социализма, успехи которой были грандиозны. Современная капиталистическая Россия до сих пор живет лишь благодаря этим достижениям не только в науке и технике, но и в сфере литературы и искусства! После космических успехов в стране царил дух оптимизма, и горы были готовы своротить не только физики, но и лирики. Ведь Стругацкие стали гармоническим сочетанием гуманитарного и естественнонаучного познания как в своем творчестве, так и в философских воззрениях. А появившиеся в то время философские концепции в фантастике могли быть как утопическими, так и антиутопическими.
Советские фантасты, писавшие о будущем, верили в коммунизм. Лишь И. А. Ефремов помимо утопического романа «Туманность Андромеды» создал антиутопию «Час Быка». К слову, именно Ефремов действенно способствовал продвижению Стругацких в фантастическую литературу, где творцы новых художественных миров синтезировали вымышленные конструкции, включая в них как черты реального мира, так и воображаемой действительности. Как Ефремов, так и ранние Стругацкие верили в грядущее наступление коммунизма, хотя и принадлежали к либерально-реформаторскому направлению в литературе. Стругацкие были подлинными шестидесятниками, детьми ХХ съезда.
Разумеется, писатели и политики, занимавшиеся социальным проектированием в эпоху Хрущева, который – во многом сам того не желая – дал толчок такому многоаспектному и противоречивому явлению, как «оттепель», должны были учитывать то, что именно советское государство и только оно одно должно было играть роль главного арбитра, оценивающего возможные проекты будущего не только для СССР как закономерной исторической формы существования государства Российского, но и для всего «прогрессивного человечества», под которым подразумевались страны социалистической или близкой к ней ориентации. Коммунистическое будущее воспринималось как официально провозглашенное и предписанное, причем советская интеллигенция не особенно удивлялась тому, что ни один грамотный философ-марксист (а их в СССР в то время было еще много) не отговорил Хрущева от того, чтобы назвать точные сроки наступления этого светлого будущего.
В фантастических рассказах того времени авторы, живописуя ближайшее будущее, использовали аббревиатуру ССКР – Союз Советских Коммунистических Республик. Использовали эту аббревиатуру и братья Стругацкие – в романе «Страна Багровых туч» и сборнике «Полдень. XXII век. (Возвращение)». В романе, действие которого происходит в конце ХХ века, командир экспедиции Ермаков «торжественно, громко и ясно провозгласил: “Мы, экипаж советского планетолёта «Хиус», именем Союза Советских Коммунистических Республик объявляем Урановую Голконду со всеми ее сокровищами собственностью человечества!”» [18, c. 280] Борис Стругацкий в одном из интервью в марте 2003 года вспоминал: «Очень хорошо помню, что аббревиатура ССКР вызывала у нас в те времена гордость, и сердце замирало в предвкушении светлого будущего. Мир, созданный нами, бесспорно хорош и желанен – он и писался как мир, в котором хочется жить» [24].
В этом же интервью Борис Стругацкий скажет, что «мы ведь не пытались предсказать будущее или угадать его. Довольно быстро мы поняли, что это – невозможно» [24]. Тем не менее, многие идеи, высказанные писателями, созданные образы и описанные в их произведениях сюжетные коллизии воспринимаются ныне именно как предсказания, для которых в то время были все основания. Отметим, что после провозглашения руководством партии политики «возврата к ленинским нормам» духовная жизнь оживилась настолько, что стали переводить не только произведения многих зарубежных авторов, бывших ранее под запретом, но и серьезные философские работы. Например, в 1959 году в СССР издали замечательную книгу Бертрана Рассела «История западной философии». И хотя издание, вышедшее под редакцией В. Ф. Асмуса, было выпущено ограниченным тиражом, сопровождалось грифом «Для научных библиотек» и лишилось главы о Карле Марксе, это было подарком не только для отечественных любомудров, но и для культурных людей вообще. Стругацкие читали эту книгу и не могли не оценить прекрасного стиля автора, лауреата Нобелевской премии по литературе. Охотно читали они и труды философов, издаваемые в серии «Философское наследие», которую в 1963 году начало выпускать издательство «Мысль».
Была пробита первая брешь в «железном занавесе», оживилась общественная жизнь, что нашло отражение в литературе, в том числе и в фантастической. Заговорили о возможности умеренного допущения экспериментов в искусстве, чему способствовали разнообразные международные фестивали, которые начали проводить в СССР. С 1962 года издательство «Молодая гвардия» инициировало выпуск ежегодников «Фантастика», где частыми авторами стали братья Стругацкие, а с 1965 года в этом же издательстве начала выходить 25-томная «Библиотека современной фантастики» (первоначально планировалось лишь 15 томов), где впервые были опубликованы многие произведения зарубежных фантастов. Эти книги читали, обсуждали, о них спорили в каждой образованной советской семье.
А. А. Грицанов справедливо отмечает [6, c. 750], что одновременно с деятельностью фантастов, разрабатывавших проекты будущего социального устройства, с 1957 года действовал Московский методологический кружок (ММК), который рассматривал возможности прогнозирования и управления развитием разных форм социально значимой деятельности. Основная идея кружка заключалась в том, что сообщество особым образом подготовленных и организованных интеллектуалов вполне способно разрабатывать и последовательно осуществлять по созданным алгоритмам сколь угодно масштабное преобразование социальной среды.
В целом, философское предвидение и социальное пророчество – материя тонкая, а как занятие – порой весьма опасное. Недаром Владимир Высоцкий, тепло и довольно часто общавшийся со Стругацкими, писал: «Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев – во все века сжигали люди на кострах». После чернобыльской катастрофы и создания тридцатикилометровой зоны отчуждения братьев Стругацких – с «легкой» руки некоторых журналистов – стали называть пророками, ибо реальность в окрестностях Чернобыля стала очень похожей на вымышленный ими в повести «Пикник на обочине» мир. Разумеется, от сомнительной чести таких пророчеств Стругацкие всячески открещивались, как и в наше время Стивен Кинг отнюдь не стремится прослыть пророком за то, что предсказал пандемию гриппа в романе «Противостояние».
В ранних произведениях братьев Стругацких можно найти два образа мира будущего: мир победившего коммунизма и мир «хищных вещей века», мир еще существующего капитализма. В произведениях их зрелого творчества описана еще и социальная реальность смешанного типа. Если в своих ранних произведениях (1955–1961) писатели заняты прогнозированием идиллической «истории будущего», а основной конфликт в них происходит вследствие борьбы человека с враждебными силами природы, от которых, по завету Мичурина, не следовало ждать милостей, то уже в 1962–1964 годы писатели обращаются к осмыслению более сложных проблем окружающего мира. В этом мире (земном недалекого будущего или же инопланетном) конфликт проистекает из столкновения двух обществ, двух социальных систем, двух этик. В творческих планах Стругацких происходит постепенный переход от «твёрдой» научной фантастики к фантастике социальной.
Мир коммунизма возникал на планете постепенно. В некоторых произведениях он показан Стругацкими, как это и планировалось советскими идеологами, конкурирующим с миром капитализма. Уже в ранних произведениях будущее общество моделируется Стругацкими на основе вечных категорий Добра и Зла, которые у них становятся не только этическими, но и приобретают социально-онтологический смысл, ибо именно отношение людей определенного общества к Добру и Злу определяет его сущность. До сих пор интересно читать роман «Страна багровых туч» об экспедиции землян на Венеру (хотя сами авторы от него всячески открещивались, считая его чрезмерно наивным) и описывающие эпоху раннего коммунизма рассказы «Забытый эксперимент», «Шесть спичек», «Испытание СКИБР» или же повесть «Извне», события которой хотя и происходят еще в реальности социализма, вполне современной авторам, но сама повесть описывает контакт с инопланетным разумом.
Стругацкие создали мир, в котором уже на рубеже ХХ–XXI веков побеждающий коммунизм (видимо, в нашем отечестве, Восточной Европе и Китае) обгоняет капитализм по всем показателям. Коммунистическое человечество начинает освоение космоса. В повести «Стажёры», относящейся к социально-философской фантастике, описываются разнообразные приключения уже знакомых читателю героев, которые сюжетно объединены рассказом о космический инспекции, оценивающей жизнь как на планетах, где уже победил коммунизм, так и на тех, где еще не выведены «родимые пятна капитализма» – жизнь «сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло», как писал еще Маркс в «Критике Готской программы» [10, c. 18]. Если на астероиде Эйномия «настоящие люди в процессе настоящей работы» демонстрируют лучшие черты человека новой, коммунистической формации, то на астероиде Бамберга капитализм не побежден, и шахтёры добывают там драгоценные камни для частной фирмы. В этом рассказе явственно выражена мысль Стругацких, что капитализм тождествен социальному злу, которое должно окончательно исчезнуть.
В повести «Стажеры» чередуются приключения в стиле «экшн» и программные философские рассуждения, которые произносит Иван Жилин. Именно в этих рассуждениях среди прочих мировоззренческих проблем затрагивается проблема социальной патологии. Мы согласны с Марком Амусиным, который пишет в этой связи о несовпадении родовой человеческой сущности, трактуемой авторами вполне коммунистически, и рефлексов человека частного [3]. Уже в этой повести Стругацкие важнейшей проблемой коммунистического общества обозначают воспитание новых людей, которое должно происходить на Земле как в колыбели всего человечества. К такому выводу приходит Иван Жилин: «Главное всегда остается на Земле, и я останусь на Земле» [17, с. 652].
Видимо, по мнению Стругацких, именно XXI век стал веком победившего коммунизма, когда все капиталистические отношения стали достоянием прошлого. Во всяком случае, в мире XXII века нет капитализма и, следовательно, социального зла, хотя герои произведений Стругацких сталкиваются с важнейшими судьбоносными проблемами, что и показано в повести «Полдень. XXII век», состоящей из двадцати новелл и которая первоначально называлась «Возвращение». Повесть была издана в 1962 году и проникнута всеобъемлющим оптимизмом, свойственным той эпохе. Грустно нам, гражданам некогда великой страны, ввергнутой в дикий капитализм первоначального накопления и лишенной тем самым социального и технологического будущего, перечитывать ныне эту повесть, в которой описан планетолет «Таймыр» (действие происходит в 2017 году!). В экипаже планетолета читатель видит появившихся еще в первых главах повести штурмана Сергея Кондратьева и врача Евгения Славина (он – первый человек, родившийся на Марсе). Этот планетолет во время опасного эксперимента по достижению скорости света совершил бросок через пространство и время. Кондратьев и Славин сумели вернуться на Землю – но лишь в 2119 году, в XXII веке. Постепенно герои осваивают новую социальную реальность, знакомясь с разными сторонами жизни земной цивилизации, причем действие рассказов о коммунистическом будущем охватывает около половины столетия.
Стругацкие живописуют людей победившего коммунизма, для которых величайшим наслаждением и смыслом жизни стала работа. Работа для жителей коммунизма представляет наивысшее счастье, ничего более интересного для них просто не существует. Стругацкими коммунизм мыслился именно как мир свободного труда, хотя и имеющий собственные проблемы развития. Но отказ от движения к коммунизму был для них равносилен отказу от общественного прогресса, то есть торжество регресса. Такой регресс неизбежно приведёт к господству мира потребления и всеобъемлющему духовному вырождению. Вообще, идеологический вакуум, забвение евангельской максимы «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:3-4) (с которой атеисты Стругацкие были полностью согласны, понимая под «устами Божьими» всю совокупную культуру человечества), неизбежно приведет к исторической деградации и гибели всего человечества.
В вымышленном мире Стругацких воплотилась, таким образом, не только идея Маркса о том, что труд в коммунизме будет первой жизненной потребностью, а не просто средством к существованию, но и мысль Канта из его труда «Антропология с прагматической точки зрения» (1798), что работа – лучший способ наслаждаться жизнью. Чем больше ты сделал, тем больше ты жил. Единственное средство быть довольным своей судьбой – заполнить ее деятельностью.
Но работа и научный поиск, которым увлечены герои, не исключают наличия серьёзных проблем в жизни героев коммунистического будущего. Современный «нищий духом» читатель, может, разумеется, усмехнуться при описании нравственных страданий Поля Гнедых, который не может прийти в себя после того, как он, став межпланетным охотником, ошибочно застрелил четверорукого астронавта-пришельца, приняв его за гигантское насекомое. Поль почти полностью раздавлен собственной совестью, размышляя о нравственной ответственности человечества перед разумной жизнью во Вселенной.
Повесть заканчивается философскими рассуждениями о закономерностях исторического развития человечества. Славин говорит Горбовскому: «… моё воображение всегда поражала идея о развитии человечества по спирали. От первобытного коммунизма нищих через голод, кровь, войны, через сумасшедшие несправедливости – к коммунизму неисчислимых духовных и материальных богатств. Я сильно подозреваю, что для вас это только теория, а ведь я застал то время, когда виток спирали ещё не закончился. Пусть в кино, но я ещё видел, как ракетами зажигают деревни, как люди горят в напалме… Вы знаете, что такое напалм? А что такое взяточник, вы знаете? Вы понимаете, с коммунизма человек начал, и к коммунизму он вернулся, и этим возвращением начинается новая ветвь спирали, ветвь совершенно уже фантастическая…» [15, с. 663]
Но «мир Полдня» отнюдь не представлялся Стругацким «концом истории». Они вообще не признавали проблемы исторического финализма. Борис Стругацкий даже в мемуарах и интервью уже XXI века не отрицал, что Мир Полудня, будучи подлинным идеалом развития человечества, не является концом его истории. Ведь сам прогресс в человеческой истории Стругацкие рассматривали в соответствии с представлениями исторического материализма как необходимый и неизбежный процесс.
Как известно, Карл Маркс считал, что человечество обладает способностью стимулировать прогресс. Он утверждал, что, хотя материальное состояние общества формирует человека, человечество также может формировать общество и активно изменять его, руководствуясь определенными идеями. «Идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами», – провозглашает Маркс в статье «К критике гегелевской философии права» (1844). Подкованные в философии и всемирной истории Стругацкие понимали, что прогресс имеет неизбежные издержки, в частности моральные. Часто прогресс не подлежит моральным оценкам, и непонимание этого может привести к фатальным последствиям.
Творческий труд на благо настоящего и будущего – суть жизни людей коммунистической формации. Такой труд становится залогом и синонимом Добра как онтологической категории. Напротив, в мире капитализма господствует отупляющая и ежедневная гонка на выживание, когда бедные становятся еще беднее, несмотря на все затраченные ими усилия, а богатые «буржуины» и «плохиши» в роли «эффективных менеджеров» – ещё богаче. Ред Шухарт из повести «Пикник на обочине», живущий в условной Америке 70-х годов ХХ века, хотя и проклинает Европу, но, по сути, живописует и собственную жизнь: «А про себя я так скажу: чего я у вас там, в Европе, не видел? Скуки вашей не видел? День вкалываешь, вечер телевизор смотришь, ночь пришла – к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, политика раздолбанная… В гробу я вашу Европу видел, – говорю, – занюханную» [15, с. 66]. Ныне большинство россиян, не имеющие никакого шанса выхода из экзистенциального тупика, бездумно повторяют – вслед за продажными и отнюдь не бедствующими пропагандистами – схожие слова, полные горького и совершенно не оправданного бахвальства.
В мире капитализма господствует общество безудержного потребления, которое описано Стругацкими в таких произведениях, как «Хищные вещи века», «Отель “У погибшего альпиниста”», «Обитаемый остров». Капитализм не только ассоциируется с обществом потребления ради самого потребления (ибо это приносит прибыль богачам и держит народ в долговом рабстве у банков и ростовщиков), но часто имеет ярко выраженную тоталитарную модификацию. В романе «Обитаемый остров» описан именно капитализм не либеральный, а тоталитарный. На планете Саракш повсеместное оболванивание людей происходит с помощью особых технических средств и ради сохранения господства правящей касты Неизвестных Отцов, причем неподдающиеся этому оболваниванию, то есть здравомыслящие люди, сомневающееся в официальной трактовке реальности, именуются «выродками». Повсеместно господствует принцип «Делать то же, что делают все, и так же, как делают все», предписывающий общие императивы поведения в тоталитарном обществе.
В романе «Хищные вещи века» (написан в 1964 году, а название взято из стихотворения «Монолог битника. Бунт машин» Андрея Вознесенского) Иван Жилин попадает в приморский город с необычайно высоким уровнем жизни и невероятно убогим духовным обликом самих жителей. Меценаты занимаются скупкой произведений искусства для их последующего уничтожения и «охраняют свою страсть к искусству кастетами» [20, с. 94], а профессура устраивает террористические акты. Отметим, что роман был написан до известных трагических событий во Франции в 1968 году, когда обезумевшие Сартр, Фуко и Делез поддержали бунты пресытившейся материальными благами студенческой молодежи!
Электромагнитный наркотик слег приводит «подсевших» на него адептов к мысли, что вся нормальная человеческая жизнь бессмысленна. В романе Жилин покупает в передвижном книжном ларьке три тома «Истории фашизма». И молодая мещаночка Вузи, дочь квартирной хозяйки Вайны, работающая в отделе для престарелых женщин Салона Хорошего Настроения, наивно интересуется, не фашист ли он сам, раз покупает такие книги. Порой простота, действительно, хуже воровства, а когда простота сопрягается с интеллектуальной пустотой, то происходит нравственная аннигиляция. В этом городе не помнят Хемингуэя, не видят причинно-следственных связей между армией (которой восторгаются) и войной (которую боятся) и с энтузиазмом способствуют развитию сферы разнообразных услуг.
В романе можно найти настоящий апофеоз посредственности в либеральном обществе, который в эпоху глобализации звучит пророчески: «Дурак стал нормой, еще немного – и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистический, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать… А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!)» [20, с. 93].
И технические достижения не способствуют улучшению положения, ибо во все эпохи человеческой истории техническое развитие цивилизации опережало духовный рост человечества. По сути, именно в этом романе Стругацкие предвидели появление самоуправляемого автомобиля, гарнитуры Bluetooth и игры пейнтбол. Но все эти игрушки цивилизации не приводят к духовному совершенствованию людей. Недаром Стругацкие поставили эпиграфом к своему роману слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Есть лишь одна проблема – одна единственная в мире – вернуть людям духовное содержание, духовные запросы». На исходе жизни Борис Стругацкий не без грусти констатировал, что та реальность, которую они с братом создали в романе «Хищные вещи века», представляется ныне наиболее вероятным сценарием развития человечества на Западе, которое стремится к высокой степени свободы выбора рода занятий и стиля жизни для каждого индивидуума. Причем о моральной стороне и цене такого выбора ныне предпочитают не задумываться. И сегодня и в России, и во всем мире все увеличивается слой людей, которым даже в голову не приходит, что они – в стремлении к собственным эгоистическим целям – мешают другим жить. Это печально.
Видимо, именно начиная с романа «Хищные вещи века» Стругацкие стали задумываться над тем, что многие люди просто не подходят по сути своей для будущего коммунистического общества. Маркс мечтал о свободном труде, но большинство людей не просто не хотят работать, но и ненавидят всякую работу. Такие люди – главная опора всякого тоталитарного общества, любой диктатуры. Жилин риторически обращается к ним в самом конце романа: «Почему вы вечно слушаете попов, фашиствующих демагогов…? Почему вы не желаете утруждать свой мозг? Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что мир огромен, сложен и увлекателен? Почему вам все просто и скучно? Чем же таким ваш мозг отличается от мозга Рабле, Свифта, Ленина, Эйнштейна…?» [20, с. 163] В том-то и дело, что Рабле и Ленин – штучный товар. И Ницше недаром злословил, что масса – фабричный товар природы.
Стругацкие так и не признали открыто правоту некоторых аспектов ницшеанства, но осознали, что значительная часть человечества просто не годится для коммунизма и никогда не достигнет этой стадии развития – вследствие слабости и противоречивости человеческой природы. Постепенно они приходят к мысли, что именно духовная природа человека станет главным тормозом общественного прогресса. Эта мысль будет особенно развита ими в произведениях 70-х и 80-х годов, особенно когда они придумают в романе «Волны гасят ветер» своих сверхлюдей – люденов, коих наделят почти сверхъестественными способностями. Чисто внешне людены ничем не отличаются от людей, но обладают третьей импульсной системой и способны принимать иные формы, которые недоступны человеческому восприятию. Более того, они даже могут свободно перемещаться в космосе без специальных кораблей. И порой люди уходят к люденам, как это сделал Тойво, сын Майи Глумовой, которая просит Максима Каммерера объяснить ей причины этого странного поступка. Все это заставляет вспомнить о мечтах русских космистов, пророчивших грядущее духовное и физическое перерождение человека.
Трагична и судьба ученого Льва Абалкина из романа «Жук в муравейнике», который был рожден в числе других 13 детей в саркофаге-инкубаторе, оставленном таинственными Странниками на безымянной планете. Абалкин может общаться с разумными собаками голованами, но на земле жить ему запрещено. В процессе расследования Максим Каммерер понимает, что Абалкин представляет собой угрозу для человечества, хотя и может помочь постичь многие тайны Вселенной, скрытые от людей. В конце концов, его убивает Рудольф Сикорский – прогрессор, представитель Комитета Галактической Безопасности, впервые появившийся в романе «Обитаемый остров». Так что и коммунистическое общество отнюдь не свободно от трагических коллизий.
Где-то в середине 60-х годов в мировоззрении Стругацких начался поворот к более взвешенному – если не сказать пессимистическому – видению будущего общества, связанному с изменившейся оценкой человека и его созидательных и деструктивных потенций. Даже коммунистическое общество будет не свободно от проблем, связанных с несовершенством человеческой природы, и не уйдет в прошлое моральная дилемма, когда из двух социальных или моральных зол приходится выбирать меньшее, когда стоит тяжелый нравственный выбор предотвращения большего зла путем совершения или же допущения зла меньшего. И коммунистическое общество сохранит элиту, которая приобретет способности, приписываемые в древности исключительно колдунам и пророкам. Читатель Стругацких видит это на примере трагической судьбы Максима Каммерера, который после работы «в поле» стал преуспевающим чиновником, распоряжающемся судьбами других людей. Даже светлый мир коммунизма нуждается в тайной полиции, чьё руководство, состоящее из самых честных и ответственных людей, вынуждено отдавать приказы на убийство совершенно невиновных, но потенциально опасных для общества индивидов. В романе «Жук в муравейнике» вывод очевиден: без необходимых человеческих жертв погибнет цивилизация.
Но более всего таких трезвых и печальных размышлений мы находим в книгах Стругацких, описывающих смешанное общество, в котором существуют как коммунистические черты, так и трудно истребимые пережитки предшествующих общественно-экономических формаций. Академик А. А. Сахаров использовал некогда термин «конвергенция», говоря о необходимом, по его мнению, слиянии капитализма и социализма. Такое общество конвергенции Стругацкие показывают в романе «Град обречённый» и в повести «Гадкие лебеди», часто включаемой в роман «Хромая судьба».
Интересно, что Стругацкие почти не описывают деятельное гражданское общество, в их книгах нет общественных собраний, споров и дискуссий. В повести «Второе нашествие марсиан» важнейшие вопросы обсуждаются на уровне слухов, но никогда не на собрании народных представителей. Причем научные и философские дискуссии Стругацкие описывают часто (например, в повести «Понедельник начинается в субботу»), а вот общественных споров в их произведениях практически нет. Да и по отношению к революции как исторической панацее зрелые Стругацкие были настроены пессимистично, постепенно отказавшись от идеи распространения «социальных ценностей». Если их учитель И. Ефремов романе «Час быка» призывал к революционному обновлению социального устройства планеты Торманс, в том числе с помощью людей коммунистического общества, то Стругацкие в своем «Обитаемом острове» открыто утверждают, что путь революционного переворота в тираническом обществе бесперспективен.
Именно в своих поздних книгах, описывающих смешанное общество будущего, а порой и коммунистическое, Стругацкие создали особую политическую философию, которая включает теоретическую модель грядущего общества, анализ возможных противоречий, понимание исторического прогресса и анализ социальных препятствий к построению светлого будущего. Политическая философия будущего невозможна без осмысления политических процессов настоящего. Стругацкие пришли к выводу, что общество без идеологии не может полноценно развиваться. Это показано в странном и эклектичном романе «Град обреченный», который несет в себе черты антиутопии. В странный город попали люди из разных стран и эпох. Они вынуждены жить вместе, по очереди играя разные социальные роли. Андрей Воронин, бывший советский астроном, сталкивается с абсурдностью социального бытия, становясь последовательно мусорщиком, следователем, редактором, господином советником. Когда после революционных волнений ситуация в Городе нормализуется, диссидент Изя Кацман пугает унтер-офицера вермахта Фрица именно реальной угрозой «сытого бунта» в условиях ограниченности перспектив развития и отсутствия скрепляющей общество идеологии. Контроль и манипулирование людьми абсурдны и губительны без объяснения сути происходящего, без идеологических вех, которые помогают идти по извилистым тропам бытия.
Социальное предвидение Стругацких было всегда связано с осознанием и решением антропологических и историософских проблем – часто в очень необычной обстановке. Стругацкие не создали произведений о классических путешествиях во времени (если не считать повести «Подробности жизни Никиты Воронцова», написанной Аркадием Стругацким под псевдонимом С. Ярославцев) ибо они избрали другой путь: описание столкновения передового человечества с гуманоидами, находящимися на более низкой ступени общественного развития. Еще в 1963 году Стругацкие написали короткий, но очень грустный рассказ «Бедные злые люди», опубликованный впервые в 1990 году. В нем писателями впервые вводится проблема столкновения передовой цивилизации коммунистической Земли и отсталого средневекового общества на далёкой планете и попыток коммунаров ускорить её развитие. Но изменить духовную сущность людей наподобие сына Простяги, который предает родного отца и раболепно замаливает свои грехи перед идолом, невозможно.
В дальнейшем эти идеи разовьются в целостную концепцию прогрессорства, в том числе и в знаменитой повести «Трудно быть Богом», где феодализм на планете Арканар показан как прямая ступень к обществу потребления тоталитарного типа. Недаром дон Румата видит следующую типичную картину и не без грусти размышляет о ней: «…благодушные, сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами и рассуждают о том, что мир совсем не плох, цены на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются вовремя, колдунов и подозрительных книгочеев сажают на кол, король по обыкновению велик и светел, а дон Рэба безгранично умен и всегда начеку. “Выдумают, надо же!.. Мир круглый! По мне хоть квадратный, а умов не мути!..”, “От грамоты, от грамоты все идет, братья! Не в деньгах, мол, счастье мужик, мол, тоже человек, дальше – больше, оскорбительные стишки, а там и бунт…”, “Всех их на кол, братья!.. Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал: грамотный? На кол тебя! Стишки пишешь? На кол! Таблицы знаешь? На кол, слишком много знаешь!”… [18, с. 396] И тяжелее всего в таком обществе приходится тем людям, которые характеризуются таким образом: «Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавшие свой век…» [18, с. 396].
В годы перестройки стало модным видеть в этой повести, как и во всем творчестве Стругацких, аллюзии на отечественную историю, а наша интеллигенция, которую А. И. Солженицын некогда метко заклеймил прозвищем «образованщина», изумляясь собственной дерзости, даже узрела в доне Рэба призрак всесильного Лаврентия Павловича… Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Отметим, что сами Стругацкие, как и, например, Л. Н. Гумилев отличали интеллектуалов, создающих подлинные духовные и материальные ценности (они строят, лечат, учат, запускают в Космос корабли), от интеллигентов-недоучек наподобие Васисуалия Лоханкина из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, занимавшихся бесплодным критицизмом и сыгравших в истории России деструктивную роль. Еще в ранней повести «Далекая Радуга» показаны учёные, которые, хотя и занимаются первоосновами физического бытия, но совершенно не способны решить довольно простую этическую задачу в ситуации «Ноева ковчега».
В повести «Второе нашествие марсиан» интеллигенция трусливо прячется от пришельцев, вместо того чтобы возглавить сопротивление. В романе «Хищные вещи века» интеллигенцию презрительно именуют «интели», ибо они даже не способны обеспечить конспирацию, когда готовят заговор, чтобы «расшевелить мещанское болото» и подвести философскую основу под общество алкоголиков и наркоманов. Такой комплот, разумеется, потерпит поражение. По мнению Ю. Черняховской, Стругацкие тем самым показали, что для общества потребления интеллигенция как социальная прослойка непригодна [22, с. 96].
Прогрессорство, о котором столь часто писали Стругацкие, было для отечественных интеллектуалов понятием не только фантастическим, но и сугубо реальным. По сути, вся история Российского и Советского государства сопряжена с привнесением духовности и обычаев Русского мира (термин А. Н. Островского) на необъятные территории Евразии. Как считал великий русский историк В. О. Ключевский, история России – история страны, которая колонизируется. Русские солдаты и путешественники, авантюристы и первопроходцы несли русскую культуру, обычаи и традиции отсталым кочевым племенам Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, не имевшим не только хотя бы отдаленного подобия государственности и развитой гуманистической культуры, но даже и самоназвания (эндоэтнонима). И после распада Советского Союза некоторые народы, отринувшие в результате кровавой резни идеалы русской культуры, стали возвращаться в состояние азиатского феодализма со всеми его «прелестями»: хлопковым рабством, восточным байством, принижением женщины, полным отсутствием образования и библиотек. Русские «прогрессоры» (врачи, учителя, профессура, управленцы) были или зверски убиты, или были вынуждены спасаться бегством, как это было в Таджикистане в начале 90-х годов.
Ушедший в историю ХХ век, донельзя наполненный страшными трагедиями, актуализировал проблему концептуализации добра и зла и соотношения этих мировоззренческих категорий – как на индивидуальном, так и на социальном уровнях. Современная жизнь до пределов оказалась наполнена и «отягощена злом», так что стало сложно отличать позитивное от негативного, деструкцию от созидания, войну от мира. Жан Бодрийяр писал в «Призрачности зла», что зло проникло повсюду, и именно поэтому человечество забыло язык, на котором можно говорить о зле [25].
Роман «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» (1988) как бы подводит итоговую черту под всей социальной фантастикой братьев Стругацких. Это и последняя вещь, построенная по принципу «роман в романе», и единственная, целиком посвящённая теме учительства и наставничества как ключевой деятельности для формирования гармоничного человека будущего общества. В этом романе можно найти все основные мотивы творчества фантастов, в том числе темы противоборства героя и социума, проблемы будущего и той цены, которую придется заплатить за него. По сути, в этом романе пессимизм Стругацких по поводу возможности построения светлого будущего достиг наивысшей точки.
Светлое будущее невозможно построить, когда души людей темны и «отягощены злом». Недаром Кант говорил, что человек сделан из «такой кривой тесины», что сделать что-либо прямое из него нет никакой возможности [8, с. 19]. Роман был издан в годы Перестройки, когда уничтожались и подвергались охаиванию многие ценности социализма. Искажалась и очернялась историческая и социокультурная реальность. Наличествовала совершенно неумеренная эмоционально-протестная активность интеллигенции, бездумно призывавшей к разрушению самих основ развития общества вместо ликвидации лишь негативной социальной компоненты. Ситуация во многом напоминала начало ХХ века, когда интеллигенты наподобие горьковского Клима Самгина раздували революционный пожар, а потом сами же и изжарились в этом бешеном огне.
Недаром таинственный Демиург в романе делает неутешительные выводы относительно человеческой природы, столь схожие с наблюдениями булгаковского Воланда: «Смотришь – и кажется, что все здесь переменилось, а ведь на самом деле – все осталось, как и прежде» [14, с. 493]. В основе этих оценок, данных героями Булгакова и Стругацких, лежит ироничная характеристика, которой одарил человека еще Мефистофель, обращаясь к Господу в «Прологе на небе», в самом начале трагедии «Фауст»:
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет [5, с. 16].
Братья Стругацкие дали в романе собственное понимание вечной взаимопроникаемости, единства и борьбы Добра и Зла. Оговоримся сразу: мы ни в коей мере не считаем этот роман равным по своим художественным достоинствам шедеврам Гёте и Булгакова. Талантливые братья Стругацкие создали произведение, которое мы рискнем определить как философскую фантасмагорию, в трех смысловых пластах которой наличествуют размышления о добре и зле сквозь призму не только евангельских сюжетов, но и всей всемирной истории, прежде всего – трагической истории России, ее прошлого, настоящего и будущего.
Созданный ими образ Демиурга не похож ни на Мефистофеля, ни на Воланда, но несет на себе генетические черты всесильного романтического героя, который не только «творит добро, всему желая зла», но и вынужден совершать зло во имя победы добра. Неслучайно братья Стругацкие поставили слова Роберта Пена Уоррена из его великого романа «Вся королевская рать» – «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать» – эпиграфом к одной из самых известных своих вещей «Пикник на обочине». Эту мысль они последовательно проводили в большинстве своих произведений, в том числе и в романе «Отягощенные злом», который создавался в самом конце трагической и героической истории Советского Союза.
Еще более удивительна метаморфоза, которая происходит со сверхъестественным героем романа Стругацких. Как только его не называют в романе: Птах, Гончар, Яхве, Ильмаринен! Искушенный в мифологии народов мира читатель поражен, но удивление достигает своего апогея, когда выясняется, что Демиург оказывается Иисусом Христом, изрядно изменившимся за два тысячелетия. На это безапелляционно указывает Борис Стругацкий в своих воспоминаниях: «Наш Иисус-Демиург совсем не похож на Того, кто принял смерть на кресте в древнем Иерусалиме <…> Он сделался страшен и уродлив. <…> наш Демиург на самом деле – это просто Иисус Христос две тысячи лет спустя. Вот уж поистине: “Пришел к своим, и свои Его не приняли”» [21, с. 301].
Совершая «отягощенное злом» добро, Демиург стремится найти Человека с большой буквы, который смог бы стать врачевателем человеческих душ и избавить мир от Зла. Для этого он с завидным постоянством принимает посетителей, являющихся к нему с проектами усовершенствования мира и социального устройства. Но ни один из этих проектов не удовлетворяет его. Однажды Демиург даже демонстрирует, что случится с миром, если человек получит способность поражать разрядом молнии своих недругов.
Интересны в этой связи мысли Мартина Хайдеггера, высказанные им после ночного богослужения: «То, что человек каждодневно вступает в ночь, нынешним людям представляется банальностью… А ведь во всенощной еще ощутима мифическая и метафизическая первобытная сила ночи, сквозь которую мы постоянно должны пробиваться, чтобы взаправду существовать. Ибо добро – это только добро зла» [13, с. 253]. Схожие мысли были развиты в художественной литературе ХХ столетия. Братья Стругацкие в своем романе замкнули круг диалектической взаимосвязи Добра и Зла. Будучи атеистами советской закваски, они рискнули отождествить Зло и Добро в образе Демиурга, оказавшегося Иисусом Христом.
Зло и Добро как вечные противоположности оказались в истории Нового времени взаимозаменяемыми категориями. Аркадий Стругацкий не дожил несколько месяцев до распада СССР, хотя и стал свидетелем августовского путча. Не дожил он до окончательного торжества в России дикого капитализма первоначального накопления, тех «хищных вещей века», которые способствовали аннигиляции духовности и торжеству социального зла в нашей стране и привели многих адептов их творчества к «переосмыслению ценностей». Все это увидел и имел время в полной мере осмыслить – в том числе в мемуарах «Комментарии к пройденному» – и Борис Стругацкий, умерший 19 ноября 2012 года.
Подведем итоги нашего исследования. Хочется напомнить еще раз слова А. С. Пушкина: «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью – такова смелость Шекспира, Dante, Miltona, Гёте в “Фаусте”, Молиера в “Тартюфе”» [12, с. 61]. Братья Стругацкие в полной мере обладали не только такой смелостью, но и мудростью глубоких и самобытных мыслителей – в том числе в изображении грядущего будущего. В своих произведениях они обозначили три варианта развития будущего общества: коммунизм (Мир Полдня), капитализм (Мир «Хищных вещей» и «Пикника на обочине») и смешанное общество («Град обреченный», «Гадкие лебеди»). Рисуя в своих произведениях определенный общественный уклад, Стругацкие, хорошо знакомые с мировой философией, ставили во главу угла представления о добре и зле, которые из этических категорий превращались у них в онтологические, определяющие порядок мироздания, общее и частное, индивидуальное и социальное бытие.
В ранний период творчества Стругацкие показывали мир, в котором хотелось жить им самим и их детям, то есть мир непрерывного прогресса и творчества, мир удивительных открытий, мир людей, влюбленных в свое дело, где общую теорию относительности школьники понимают так же хорошо, как механику Ньютона.
Будущее общество у ранних Стругацких – это мир победившего коммунизма, в котором господствует культ логики, невероятных открытий и героических персонажей. Показанное ими будущее охватывает события от второй половины XX века до середины XXIII века, но писатели не стремились к созданию чётко прописанной хронологии, предпочитая использовать постоянных героев, переходящих из книги в книгу или упоминаемых эпизодически.
В зрелый период творчества у Стругацких в изображении будущего социального устройства стал преобладать пессимизм, проистекавший из более реалистичной оценки природы человека. С одной стороны, они создали сциентистский образ будущего, а с другой – положили в качестве главного регулятора будущего этические начала. С одной стороны, мир будущего описан как гуманный мир гражданского участия, а с другой – показана неизбежность тайной полиции, убивающей невинных людей, как залог существования этого гуманного будущего. С одной стороны, прогресс неизбежен, а с другой – он зачастую плохо соотносится с моралью.
Таких противоречий при описании будущего общественного устройства в наследии Стругацких много, но они не носят характер эклектичности: Стругацкие все время показывают, что движение и развитие общества осуществляется только в результате существования и действия разнообразных противоречий. Ведь, по Гегелю, наличие противоречия есть критерий истины, а отсутствие противоречий – критерий заблуждения.
На протяжении всего творчества Стругацкие трактовали будущее не как результат случайного развития событий, но как слияние двух магистральных тенденций, то есть синтез всего предыдущего восходящего развития человечества и сознательного воздействия самих людей на собственное будущее.
Список литературы
1. Амусин М. Ф. Братья Стругацкие. Очерк творчества. – Иерусалим: Бесэдер, 1996. – 192 с.
2. Амусин М. Ф. Избирательное сходство: Достоевский в мирах братьев Стругацких // Новый мир. – 2010. – № 9 (1025). – С. 173–184.
3. Амусин М. Ф. От утопии к атараксии // Вопросы литературы. – 2013. – № 4. – С. 224–255.
4. Володихин Д. М., Прашкевич Г. М. Братья Стругацкие. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 350 с.
5. Гёте И. В. Фауст // Собрание сочинений: в 10 т. Т. 2. – М.: Худлит, 1976. – 512 с.
6. Грицанов А. А. Стругацкие // Всемирная энциклопедия: Философия XX век / Главн. научн. ред. и сост. А. А. Грицанов. – М.: АСТ, Минск: Харвест, Современный литератор, 2002. – С. 750.
7. Кайтох В. Братья Стругацкие // Стругацкий А., Стругацкий Б. Бессильные мира сего: Сборник. – Донецк: Сталкер, 2004. – C. 409–670.
8. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения: в 8 т. Т. 8. – М.: Чоро, 1994. – С. 12–28.
9. Ленин В. И. Задачи союзов молодёжи // Полное собрание сочинений. Т. 41. – М.: Политиздат, 1981. – С. 298–318.
10. Маркс К. Критика готской программы // К. Маркс, Ф. Энгельс / Сочинения. Т. 19. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. – С. 9–32.
11. Материалы XXII съезда КПСС. – М.: Госполитиздат, 1962. – 464 с.
12. Пушкин А. С. Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям» // Полное собрание сочинений. Т. 11. Критика и публицистика, 1819–1834. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1949. – С. 59–61.
13. Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. – М.: Молодая гвардия: Серебряные нити, 2002. – 612 c.
14. Стругацкий А., Стругацкий Б. Отягощенные злом, или Сорок лет спустя // Избранное. Том 2. – М.: СП «Вся Москва», 1989. – С. 484–639.
15. Стругацкий А., Стругацкий Б. Пикник на обочине. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 219 с.
16. Стругацкий А., Стругацкий Б. Полдень. XXII век // Стругацкий А., Стругацкий Б. / Хищные вещи века; Чрезвычайные происшествия; Полдень, XXII век: Фантастические романы и рассказы. – М.: Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 1997. – C. 319–667.
17. Стругацкий А., Стругацкий Б. Стажеры // Страна багровых туч; Путь на Амальтею; Стажеры: Фантастические романы. – М.: Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 1997. – C. 423–652.
18. Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна Багровых Туч // Страна багровых туч; Путь на Амальтею; Стажеры: Фантастические романы. – М.: Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 1997. – C. 41–344.
19. Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом // Избранное. Том 1. – М.: СП «Вся Москва», 1989. – C. 380–522.
20. Стругацкий А., Стругацкий Б. Хищные вещи века // Хищные вещи века: Второе нашествие марсиан; Град обреченный: Романы. – М.: Дружба народов, 1997. – С. 3–163.
21. Стругацкий Б. Н. Комментарий к пройденному. – М.: АСТ, 2018. – 320 с.
22. Черниховская Ю. С. Политико-философское осмысление проблем общественного развития в творчестве А. и Б. Стругацких. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. – М., 2013. – 169 с.
23. Хауэлл И. Апокалиптический реализм: Научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких. – Бостон: Academic Studies Press; Санкт-Петербург: БиблиоРоссика, 2021. – 192 с.
24. OFF-LINE интервью с Борисом Стругацким // Русская фантастика. URL: https://www.rusf.ru/abs/int0054.htm (дата обращения 09.09.2025).
25. Baudrillard J. The Transparency of Evil. – London: Verso, 1990. – 174 p.
26. Potts S. W. The Secomd Marxian Invasion: The Dialectical Fables of Arkady and Boris Strugatsky. – San-Bernardino: Borgo Press, 1991. – 104 p.
References
1. Amusin M. F. The Strugatsky Brothers. An Essay on Creativity [Bratya Strugatskiye. Ocherk tvorchestva]. Jerusalem: Beseder, 1996, 192 p.
2. Amusin M. F. Selective Similarity: Dostoevsky in the Worlds of the Strugatsky Brothers [Izbiratelnoye skhodstvo: Dostoyevskiy v mirakh bratev Strugatskikh]. Novyy Mir (New World), 2010, no. 9 (1025), pp. 173–184.
3. Amusin M. F. From Utopia to Ataraxia [Ot utopii k ataraksi]. Voprosy literatury (Questions of Literature), 2013, no. 4, pp. 224–255.
4. Volodikhin D. M., Prashkevich G. M. The Strugatsky Brothers [Bratya Strugatskiye]. Moscow: Molodaya gvardiya, 2017, 350 p.
5. Goethe J. W. Faust [Faust]. Sobranie sochineniy: v 10 t. T. 2 (Collected Works: in 10 volumes. Vol. 2). Moscow: Khudlit, 1976, 512 p.
6. Gritsanov A. A. Strugatsky [Strugatskie]. Vsemirnaya entsiklopediya: Filosofiya XX vek (World Encyclopedia: Philosophy of the 20th Century). Moscow: AST, Minsk: Harvest, Sovremennyy literator, 2002, p. 750.
7. Kaytokh V. The Strugatsky Brothers [Bratya Strugatskiye]. Strugatskiy A., Strugatskiy B. Bessilnye mira sego: Sbornik (Strugatsky A., Strugatsky B. The Powerless of This World: Collected Works). Donetsk: Stalker, 2004, pp. 409–670.
8. Kant I. Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose [Ideya vseobschey istorii vo vsemirno-grazhdanskom plane]. Sochineniya: v 8 t. T. 8 (Works: in 8 volumes. Vol. 8). Moscow: Choro, 1994, pp. 12–28.
9. Lenin V. I. The Tasks of the Youth Leagues [Zadachi soyuzov molodezhi]. Polnoye sobraniye sochineniy. T. 41 (Complete Works. Vol. 41). Moscow: Politizdat, 1981, pp. 298–318.
10. Marx R. Critique of the Gotha Programme [Kritika gotskoy programmy]. In: Marx K., Engels F. Sochineniya. T. 19 (Works. Vol. 19), Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoy literatury, 1961, pp 9–32.
11. Proceedings of the XXII Congress of the CPSU [Materialy XXII sezda KPSS]. Moscow: Gospolitizdat, 1962, 464 p.
12. Pushkin A. S. Materials for “Excerpts from Letters, Thoughts and Remarks” [Materialy k “Otryvkam iz pisem, myslyam i zamechaniyam”]. Polnoe sobranie sochineniy. T. 11. Kritika i publitsistika, 1819–1834 (Complete Works. Vol. 11. Criticism and Journalism, 1819–1834). Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR, 1949, pp. 59–61.
13. Safranski R. Heidegger: The German Master and His Time [Khaydegger: germanskiy master i yego vremya]. Moscow: Molodaya gvardiya: Serebryanye niti, 2002, 612 p.
14. Strugatsky A., Strugatsky B. Overburdened with Evil [Otyagoschennye zlom, ili Sorok let spustya]. Izbrannoe. Tom 2 (Selected. Vol. 2). Moscow: SP “Vsya Moskva”, 1989, pp. 484–639.
15. Strugatsky A., Strugatsky B. Roadside Picnic [Piknik na obochine]. Moscow: Izdatelstvo AST, 2016, 219 p.
16. Strugatsky A., Strugatsky B. Noon. XXII century [Polden. XXII vek]. Khischnye veschi veka; Chrezvychaynye proisshestviya; Polden, XXII vek: Fantasticheskie romany i rasskazy (Predatory Things of the Century; Emergencies; Noon, XXII century: Fantastic Novels and Stories). Moscow: Izdatelstvo AST, 1997, pp. 319–667.
17. Strugatsky A., Strugatsky B. Interns [Stazhery]. Strana bagrovykh tuch; Put na Amalteyu; Stazhery: Fantasticheskie romany (Country of Crimson Clouds; Path to Amalthea; Interns: Fantastic Novels). Moscow: Izdatelstvo AST; Saint Peterburg: Terra Fantastica, 1997, pp. 423–652.
18. Strugatsky A., Strugatsky B. The Land of Crimson Clouds [Strana bagrovykh tuch]. Strana bagrovykh tuch; Put na Amalteyu; Stazhery: Fantasticheskie romany (The Land of Crimson Clouds; The Path to Amalthea; Interns: Science Fiction Novels). Moscow: Izdatelstvo AST; Saint Peterburg: Terra Fantastica, 1997, pp. 41–344.
19. Strugatsky A., Strugatsky B. Hard to Be a God [Trudno byt bogom]. Izbrannoe. Tom 1 (Selected Works. Volume 1). Moscow: SP “Vsya Moskva”, 1989, pp. 380–522.
20. Strugatsky A., Strugatsky B. Predatory Things of the Century [Khischnye veschi veka]. Khischnye veschi veka; Vtoroe nashestvie marsian; Grad obrechennyy: Romany (Predatory Things of the Century; The Second Invasion of the Martians; The Doomed City: Novels). Moscow: Druzhba narodov, 1997, pp. 3–163.
21. Strugatsky B. N. Commentary on the Covered [Kommentariy k proydennomu]. Moscow: AST, 2018, 320 p.
22. Chernikhovskaya Y. S. Political and Philosophical Understanding of the Problems of Social Development in the Works of A. and B. Strugatsky. Thesis for the Degree of Candidate of Political Sciences [Politiko-filosofskoye osmysleniye problem obschestvennogo razvitiya v tvorchestve A. i B. Strugatskikh. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata politicheskikh nauk]. Moscow, 2013, 169 p.
23. Howell I. Apocalyptic Realism: Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky [Apokalipticheskiy realizm: Nauchnaya fantastika Arkadiya i Borisa Strugatskikh]. Boston: Academic Studies Press; Saint Petersburg: BiblioRossika, 2021, 192 p.
24. OFF-LINE Interview with Boris Strugatsky [OFF-LINE intervyu s Borisom Strugatskim]. Available at: https://www.rusf.ru/abs/int0054.htm (accessed 09 September 2025).
25. Baudrillard J. The Transparency of Evil. London: Verso, 1990, 174 p.
26. Potts S. W. The Secomd Marxian Invasion: The Dialectical Fables of Arkady and Boris Strugatsky. San Bernardino: Borgo Press, 1991, 104 p.
© Горохов П. А., 2025