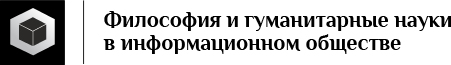УДК 130.2
Лаврикова Ирина Николаевна – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя», Тверской филиал, кафедра правовой и гуманитарной подготовки, доцент, доктор культурологии, кандидат философских наук, Тверь, Россия.
E-mail: ilavrikova@rambler.ru
170012, Россия, Тверь, ул. Кривичская, 12,
тел.: 8-905-606-9449.
Аннотация
Состояние вопроса: Праздник – мерило человечности и один из источников упорядочивания бытия: переживая упадок в отдельные периоды истории, он не исчезает совсем, более того, считается наиболее древним из постоянно воспроизводимых форм общественной жизни.
Результаты: В современной теории культуры сложилось довольно большое разнообразие подходов к таким вопросам, как сущность праздника, его социальная и политическая значимость, связь с другими сторонами общественной жизни и т. п. В рамках этих подходов обсуждаются следующие проблемы: праздник и переживание счастья; игра как безопасная тренировка и отработка «будущих серьёзных дел» человеческой жизни; игра и катарсис; игровые (внутренние) и внеигровые цели игры; взаимодействие игры и праздника; игра, праздник и ритуал; игра и свобода; игра, праздник и революция; игра, праздник и социальное творчество; игра и фантазия; политизация игры и праздника. В существующих культурфилософских концепциях до сих пор не разработано конкретной методологии изучения праздника.
Выводы: Как средство для иных, неигровых целей, игра, включенная в систему «праздник», способствует реализации его основных задач: воспитывать, передавать человеческий опыт, отдыхать от будничного и т. д. Внимание к празднику как самостоятельному институту способствует не только сохранению опыта прошлого, но и прогрессу современных форм праздничных отношений.
Ключевые слова: власть; игровое; идеология; культура; методология праздника; неигровое; политическое; общество; ритуал.
Holiday Culture: Between Game and Non-Game
Lavrikova Irina Nikolaevna – Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Y. Kikoty, Tver branch, Department of legal and humanitarian training, associate professor, doctor of cultural studies, Ph. D. (Philosophy), Tver, Russia.
E-mail: ilavrikova@rambler.ru
12 Krivichskaya ul., Tver, 170012, Russia,
tel.: +7-905-606-9449.
Abstract
Background:Holiday is a measure of humanity and one of the sources for the regulation of being. Experiencing decay in certain periods of history, holiday does not disappear completely; moreover, it is considered the most ancient of the constantly reproducible forms of social life.
Results: In the modern theory of culture, there is quite a wide variety of approaches to such issues as the essence of holiday, its social and political significance, communication with other aspects of public life, etc. Within the framework of these approaches, the following aspects are discussed: holiday and happiness experience; game as a safe training and working out the “future serious affairs” of human life; game and catharsis; internal and external game goals; game and holiday interaction; game, holiday and ritual; game and freedom; game, holiday and revolution; game, holiday and social creativity; game and fantasy; politicization of game and holiday. In the existing cultural-philosophical concepts, a specific methodology for studying holiday has not been developed yet.
Conclusion: As a means for other non-game purposes, game included in the “holiday” system contributes to the realization of its main tasks: educating, sharing human experience, relaxing from everyday life, etc. Interest in the holiday as an independent institution promotes not only the preservation of past experience but also the development of modern forms of holiday relations.
Keywords: power; game; non-game; ideology; culture; holiday methodology; political; society; ritual.
Сфера игрового является основой большого количества социальных отношений, в том числе и порожденных праздником. Попробуем подробнее разобраться в «лабиринтах» взаимозависимости «игра – праздник», уточняя границы влияния данных институтов на становление и развитие процессов внутри указанных систем, а также определить степень наложения природных конструктов этих древнейших механизмов культуры на «территории праздника». На мысль о тесной связи данных феноменов натолкнули публикации Й. Хейзинги, Е. Финка, А. Б. Демидова, Л. Т. Ретюнских и др. Они и позволили сформулировать, а затем аргументировано доказать правомочность существования такой связи.
Итак, по порядку. Выясняя человеческую способность понять бытие, рассмотреть «многообразное сущее», постичь «очертание вещи», Е. Финк [12, с. 358–364] характеризовал наш разум как небезразличный по отношению к основным феноменам нашего существования, к тому, что определяет и обуславливает наше бытие, а именно: бремя труда, острота борьбы (господство), муки любовного томления и тень смерти. Далее, анализируя «перескакивание через… condition humaine» с помощью фантазии, он писал о ее проникновении во все сферы человеческой жизни, при этом оставляя за собой право на обладание «особым местом, которое можно счесть ее домом» – игрой. Более того, Финк называет игру пятым из основных феноменов человеческого существования, охватывающим «всю человеческую жизнь до самого основания», овладевающим ею до такой степени, чтобы значительно повлиять, определить «бытийный склад человека… Она пронизывает другие основные феномены человеческого существования, будучи неразрывно переплетенной и скрепленной с ними».
Процедура исследования позволяет проанализировать некоторые особенности игры, чтобы обосновать существование связи «игра-праздник» и выяснить причины ее устойчивости. Ведь фактически, по нашему мнению, все проявления игры тождественно «накладываются» на те «проживания», которые дарует людям праздник.
Одной из первых таких особенностей Е. Финк называет счастье как «конечную цель человека», как то, что мы пытаемся «заработать, завоевать, за-любить». И только игра, находящаяся «в стороне от всякого беспокойного стремления», не имеет никакой цели, аккумулируя в самой себе и цель, и смысл. «Игра – не ради будущего блаженства, – констатирует Е. Финк, – она уже сама по себе есть “счастье”, лишена всеобщего “футуризма”, это дарящее блаженство настоящее, непредумышленное свершение». И даже если игра содержит «моменты значительного напряжения», все равно, «со своими волнениями, со всей шкалой внутреннего напряжения и проектом игрового действия, никогда не выходит за свои пределы и остается в себе самой». Вполне справедливо с таких позиций Е. Финк называет игру «оазисом счастья», буквально, чарами и оазисным счастьем «в пустыне и бессмысленности современного бытия». И тут с ним нельзя не согласиться, что, не сплетая игру «с прочими жизненными устремлениями», делая ее бесцельной, мы начинаем находить в ней «малое, но полное в себе счастье». В таком случае проживание праздничного счастья даруется нам в значительной мере именно благодаря акту обыгрывания (при условии, что обыгрывается не святое, но допустимое моралью).
Следующая игровая особенность, которая накладывает отпечаток на праздник – это игра как безопасная, нерискованная тренировка и отработка «будущих серьезных дел нашей жизни». Действительно, по Е. Финку [12, с. 365–366; 370; 381], игра подготавливает «…сначала посредством ни к чему не обязывающих проб-поступков и способов поведения, которые позднее станут обязательными и неотменимыми». Далее, Е. Финк отмечает, что «новые» игры изобретаются не очень часто, но есть и «творческое изобретение новых игр…Однако мы играем не потому, что в окружающем социуме имеются игры: игры наличны и возможны лишь потому, что мы играем в сущностной основе своей».
Видимо, есть еще одна, исключительно игровая особенность, которая праздник как институт отношений окрашивает серьезностью, вливая «многие смысловые мотивы в жизненные сферы труда и господства». Многообразно экспериментируя на игровом поле, пробуя, человек как бы «нащупывает» границы возможного, которые впоследствии перерождаются в твердые нормы, обычаи, обязательные правила. Похищая нас из мира привычного и будничного, где мы существуем «в суровости и тягости труда, в борьбе за власть», игра, рассуждает Е. Финк, словно возвращает нас «к бездонно-радостной, трагикомической серьезности, в которой мы созерцаем бытие словно в зеркале» [12, с. 381].
А. Б. Демидов [4, с. 25–26], исследуя игру, дополняет представления о ее природе другими характеристиками. Например, он акцентирует внимание на воодушевлении и облегчении, свойственных игровому процессу, и предлагает обозначить эти состояния термином Аристотеля – «катарсис». А. Б. Демидов ссылается на известные практики «очищения души», которые проводились пифагорейцами в музыкальном сопровождении. На сходную зрительскую реакцию (в виде катарсических состояний) при просмотре театральных трагедий указывал Аристотель. Будучи непосредственным свидетелем происходящего, он, видимо, имел основание утверждать, что «…сопереживание и ужас, испытываемые зрителями, очищают их души от аффектов». «Нетрудно заметить», – подытоживает А. Б. Демидов, что «очистительное воздействие произведений искусства, выявленное античными философами, свойственно всякой игре вообще».
Исследуя саму игру как средство, содержащее не только цели, внутри нее самой обозначенные (вводится понятие «внеигровые цели»), А. Б. Демидов связь «цели игровые – цели внеигровые» упорядочивает в виде классификации [4, с. 29], согласно которой цели игры бывают:
1) имманентные:
– соревнование;
– представление (в виде репрезентации и воображения);
2) внешние:
– ставка;
– престиж, почет;
– вмешательство мистических сил;
– обучение, тренировка;
– выявление судьбы, воли богов;
– проведение досуга;
– самоутверждение.
Игра именно в силу ее структурной упорядоченности дает человеку возможность «как бы плыть по ее течению и таким образом избавляет его от тревог, свойственных обыденной “неорганизованной” жизни. Поэтому у человека возникает спонтанное стремление к повторению, возобновлению игры…» [4, с. 24].
В начале статьи указывалось, что наш исследовательский интерес вызывает степень наложения или взаимовлияние игры и праздника. Классификация, предложенная А. Б. Демидовым, как нельзя лучше показывает, насколько серьезно игра формирует цели праздничного мероприятия. Итак, игра в состоянии «вне игры», то есть игра как средство внеигровой цели, предполагает перенос всех ключевых ее особенностей на «территорию» праздничного явления. В данном случае и то, что мы называем элементами ритуала (с участием мистических сил), и оттачивание традиций («обучение, тренировка»), и процессы социализации (формирование статуса, в классификации – «престиж, почет», «самоутверждение») и пр. Фактически, как средство для иных, неигровых, целей, игра, включенная в систему «праздник», способствует реализации его основных задач: воспитывать, передавать человеческий опыт, отдыхать от будничного и т. д.
В связи с тем, что праздник интересен нам, прежде всего, как явление политическое [см.: 7], вновь обратимся к текстам Е. Финка, особенно в части, затрагивающей коммуникативное пространство игры, или «праздничного игрища», где «сообщество празднующих», преображено «в сообщество созерцающих, которые осмысленно созерцают отраженный образ бытия и приходят к предчувственному про-зрению того, что есть» [12, с. 400–401].
Отметим, что именно праздник, по предположениям Е. Финка, становится изначальной формой игры как коллективного действия. Такой вывод представляется неслучайным, ведь «…человек играет тогда, когда он празднует бытие», а общий строй игры носит праздничный характер. Действительно, только праздник способен прерывать «череду отягченных заботами дней», отграничивать «от серого однообразия будней», отделяться и возвышаться «как нечто необычное, особенное, редкое». Кроме того, праздник недостаточно определять, противопоставляя будням, так как он «…имеет значение и для будней, которым необходимы возвеселение, радость и про-яснение». По мнению Е. Финка, праздник намерено извлекается из потока повседневности: обладая функцией замещения, он становится своего рода маяком, эту повседневность озаряющим.
Кроме того, праздник «был могучим прорывом творческих игровых сил человеческого существа», а праздничная игра – «корнем и основанием» искусства. Оно буквально «вырастает» из желания украсить жизнь ярче, чем в этом нуждалась обыденность.
Исследования праздника как бы «в поле игры» или «через игру» невозможны без тщательного анализа феномена игры, выполненного Л. Т. Ретюнских [11, с. 78–81]. При этом часть анализа была посвящена взаимосвязям игры и ряда феноменов, определенным образом выбранных Л. Т. Ретюнских. Предлагаем выполнить движение обратное: во-первых, проанализируем феномен игры как то, что сопредельно празднику, а далее явления, имеющие отношение к этому феномену, рассмотрим во взаимосвязи с праздничным действом.
Л. Т. Ретюнских исследует схожесть игры и ритуала. Она считает, что подобная схожесть «обманчива как внешняя противопоставленность игры и работы», что «…игровая реальность, осуществляющаяся и оформляющаяся через деятельность одновременно локальна и всепроникающа. <…> Ритуал ни в коем случае нельзя считать игрой до тех пор, пока субъект действия не противопоставит его подлинному бытию. Но историческая и культурная практика свидетельствует о том, что как раз ритуальные действия обладают в человеческом восприятии гораздо большей степенью подлинности и значимости, нежели иные формы бытия и, тем более, игра» [11, с. 78].
Л. Т. Ретюнских обращается к восточной философской традиции, в которой ритуал тщательно осмыслялся, а ритуальная культура считалась культурой «нераспространенности игры». Ведь «ритуал – основа любого священнодействия, чем больше ритуалов, обязательных для исполнения, тем сама жизнь ближе к священнодействию, т. е. к соединению человека с трансцендентным бытием» [11, с. 78]. Исследуя природу ритуала, автор проводит любопытные аналогии между мнениями великих конфуцианцев и кантовскими категорическим и гипотетическим императивами по указанному предмету. Несмотря на колоссальный временной разрыв, мыслители сходны во мнении, что ритуал – это, прежде всего, порядок.
Порядок, как известно – гарант благополучия в любом государстве, его же обеспечение осуществляется соблюдением ритуала, при этом «ритуал – не просто основа жизни, он есть еще и сущность человека». Согласно конфуцианскому канону, «…ритуал и долг суть великие врата, выводящие к небесному пути, дающие выход человеческим чувствам» [5, с. 129]. Таким образом, ритуал более значим, поликультурен: он – не только основа социального, но и влияет на формирование личностного.
Л. Т. Ретюнских подытоживает: «Если долг понимать как сущностное основание жизни и морали, то ритуал есть его внешнее проявление, качественная определенность, оформленность». По И. Канту, категорический императив есть «сущность, порождающая долг», а гипотетический – формализация конкретных правил поведения человека, обеспечение устойчивого порядка и то, что «создает разные формы осуществления этого порядка (ритуалы)». Так что же такое ритуал? «Порядок? Да. Правила? Да, и очень строгие. Игра? Нет, – жизнь, подлинная реальность» [11, с. 79].
Приведенные высказывания в сочетании с анализом исторических событий в Советской России позволяют специально рассмотреть вопросы о неслучайности ритуала и, более того, о процедуре ритуализации праздника как политической необходимости. Согласно «Ли-цзи»: «Чтобы разрушить царство, погубить клан, извести человека, нужно, прежде всего, искоренить ритуал» [5, с. 109]; по мнению Л. Т. Ретюнских, ритуал есть своего рода «залог существования самой реальности в ее конкретно оформленных проявлениях» [11, с. 81].
Чтобы разобраться в сложившейся проблеме, предлагаю вновь, более пристально «вглядеться» в управленческий опыт Страны Советов. То, что разрушение ритуала разрушает жизнь, как показывает история, отчетливо представляли руководители молодого советского государства, возможно даже по наитию. Вспомним, как на момент воплощения так называемого «нового порядка» на территории послеоктябрьской России 1917 года, совнаркомовская спецкомиссия А. В. Луначарского проделала гигантскую работу, разрабатывая «другие-иные-новые» символы, ритуалы и праздники, обязанные прижиться в народе.
Конечно, наитие было исключено, и это слово было использовано нами лишь для контраста, чтобы подчеркнуть важность «праздничной основы» всякого общества, независимо от его состояния. На тот исторический момент, когда российское государство было отягощено разрухой, нищетой и голодом, словом, находилось в социальных и промышленных «руинах», по нашему мнению, руководители молодой страны тем более не имели права на случайность. Думается, выкраивать финансы для целой развлекательной отрасли со штатом сотрудников, школой спецкадров, необходимым инструментарием было непросто, но, с другой стороны, очевидно выгодно. Очевидность эта, как думается, была обоснована предсказуемыми и значительными «политическими» дивидендами.
Исследуя природу политического праздника и значение его ритуализации, можно воспользоваться примерами конкретных отечественных практик, так как для нас это нечто родное, что-то буквально зримое и испытанное, да и сама процедура изучения и соприкосновения с такой историей (историей феномена) интересна.
Начнем с того, что праздник и праздничность, в частности, в момент революционных переломов, были (и будут всегда) предметом исследовательского интереса.
Например, в понимании Г. Маркузе [см.: 10] социалистическая революция это:
– то, что тождественно карнавалу;
– время, в котором карнавальная игра равносильна социально-политическому освобождению;
– баррикада, тождественная танцплощадке; а любовь – героизму;
– свобода, даруемая карнавалом;
– тотальное освобождение человечества через революцию-карнавал, через труд, заменившийся игрой;
– замена этического раскрепощенной чувственностью, логического и разумного – раскованным воображением.
Э. Баталов в статье «Воображение и революция» данную концепцию отвергает, аргументируя, что народной пролетарской революции также свойственен дух особой, но не карнавальной праздничности; социалистическая революция есть «праздник всенародного освобождения» и смысл ее «не только в политическом перевороте, но и в возрождении… угнетенного трудящегося, …когда праздник (не предполагающий, разумеется, праздности) становится постоянным внутренним измерением человеческого существования» [1, с. 77–78].
В целом статья Э. Баталова, по нашему мнению, носит дискуссионный характер. При этом создается впечатление, что, оспаривая взгляды Г. Маркузе и «многих других леворадикальных теоретиков», автор откровенно выполняет идеологический заказ. Это вполне соответствовало духу политической системы СССР так называемого «периода застоя». Конечно, Г. Маркузе не нуждается в чьем-либо одобрении, но с позиций состояния современного общества его выводы кажутся более чем убедительными (уточним: автору данной статьи). Хотелось бы к ним вернуться вновь и сделать краткую собственную выборку, заострив внимание на тех положениях, которые в определенной мере соприкасаются с исследованием института праздника:
1) сфера досуга и ее зависимость от политики и бизнеса;
2) свобода в условиях массовой культуры;
3) человеческая жизнь и идеология господствующей элиты.
Итак, по порядку.
1) Описывая перспективы, как он называет, «Государства Благосостояния», Г. Маркузе указывает, что они определяются «способностью к повышению уровня управляемой жизни». На это способны те государства, где налажен технический аппарат, «утвердившийся как отдельная власть над индивидами». Техническая рациональность укрепляет свои позиции настолько, что упадок свободы и оппозиции превращается в «объективный общественный процесс» [10, с. 312–313].
Важно, что следствием рациональности Государства Благосостояния становится несвобода, так как тотальное администрирование ведет к ограничению:
– свободного времени;
– количества и качества товаров и услуг первой необходимости;
– интеллекта, ориентированного на самоопределение.
Говоря о свободном времени, автор делает сноску, текст которой приводится далее дословно: «“Свободное” время не означает время “досуга”. Последнему развитое индустриальное общество максимально благоприятствует, но, однако же, оно не является свободным в той мере, в какой оно регулируется бизнесом и политикой» [10, с. 312–313].
2) Рассуждая о свободе, Г. Маркузе отмечает следующее:
– повышение уровня жизни граждан превращается в «побочный продукт политических манипуляций»;
– снижается потребность в свободе, так как управляемая жизнь считается хорошей, то есть «безопасной и комфортабельной»;
– абстрактные идеи свободы перестают быть убедительными для общества, а со стороны государства утрата экономических и политических свобод становится незначительным уроном: в обновлении институтов нет необходимости, так как имеющиеся товары и услуги даруют «удовлетворение, граничащее со счастьем».
Человека массовой культуры Г. Маркузе считает предателем надежды и губителем истины, хранимых «сублимированными образцами высокой культуры», а сферы культуры – искусство, политика, религия, философия, будучи, смешанными в СМИ, «приводятся к общему знаменателю – товарной форме. <…> Котируется не истинная ценность, а меновая стоимость».
3) Поскольку основным предметом исследования, отражаемого в данной статье, является соотношение игрового и неигрового на «территории» праздника, и мы достаточно регулярно обращаемся к «логике господствующих», представляется целесообразным составить схему зависимости власти и человеческой жизни (смерти) по выкладкам Г. Маркузе.
Представляется возможным данную схему выполнить в виде мишени, центральным «ядром» которой является руководство человеческой жизнью и смертью. Подобно концентрическим кругам, это ядро последовательно охватывают сначала круг «рациональности и производительности», затем «рациональности идеологического господства» и, наконец, «идеологии господствующего общественного аппарата» или «власти над человеком». Как Г. Маркузе пишет по этому поводу, «рациональность и производительность руководят нашей жизнью и смертью», более того, сам прогресс оценивается разрушением, а цена жизни – смертью. При этом отречение и тяжелый труд превращаются в предпосылки «удовлетворения и радости». И далее: «Бизнес должен продолжаться во что бы то ни стало, и… альтернативы утопичны». Подобная идеология порождена «господствующим общественным аппаратом», и она по сути есть «необходимое условие продолжения его функционирования и часть его рациональности» [10, с. 407].
В соответствии с вышесказанным, в поле зрения идеологов правящей элиты справедливо, с моей точки зрения, попадает революционная праздничность, которая стала предметом активного интереса и К. Маркса, и В. И. Ленина, и А. В. Луначарского. Контроль свободного времени, а, тем более, досуга был небезосновательным, и буквально пунктирно напомним его ключевые положения.
По К. Марксу, социалистическая революция провозглашает решительный разрыв с прошлым во всем том, что касается идеалов и героики проводимой пролетариатом борьбы. Это относится к традиционной (мифологической) праздничной культуре, к ее праздничным сюжетам и формам, к сложившимся в ней способам выражения праздничных эмоций и типам праздничного поведения [цит. по: 9, с. 213].
Связывая идеалы социалистической революции и смех, К. Маркс обозначал его свойством здорового и свободного человеческого духа, постоянным внутренним измерением существования людей, революцию делающих. Смех очищает и разрушает, без него пролетарская революция не окончательна, ведь смех, ирония, сатира помогает сводить счеты не только с прошлым вне себя, но и с прошлым в самой себе. Как позднее отмечал А. В. Луначарский: «…Ибо смех есть признак силы. Смех не только признак силы, но и сама сила» [цит. по: 9, с. 360].
Обобщая наблюдения и прогнозы К. Маркса, считаю необходимым оговориться, что собственно революционной эстетикой напрямую он не занимался (празднично-культурный опыт Парижской коммуны был ограниченным), но, тем не менее, представлял праздничность как некое единство героического, трагического и веселого.
Праздником и праздничностью вплотную занимался В. И. Ленин, более того, по его мнению, революция должна была «испытываться» праздником, а праздник революцией. Цитируем: «Революции – праздник угнетенных и эксплуатируемых. <…> Мы окажемся изменниками и предателями революции, если мы не используем этой праздничной энергии масс. <…> Кто в настоящий… момент сознательно способен предпочесть мирное плавание, …пусть дождется конца революции, когда минет праздник, снова начнутся будни…» [8, с. 103–104].
Изучая праздничные концепции более позднего советского периода, нами была обнаружена, например, оригинальная интерпретация «праздничной энергии»: ленинскому сочетанию придали статус «определенно зафиксированной» словесной формулы праздничного аспекта революции. Конкретизируя ее смысл, А. И. Мазаев пишет: «“Праздничная энергия” есть, по-видимому, не что иное, как творческая субстанция, объединяющая в себе чувственно-практическую и идеально-условную деятельность масс в условиях революции. Она направлена на созидание новых общественных порядков, и обладание ею делает народ способным… на “чудеса” социального творчества. <…> Ленин не только обратил внимание на “праздничную энергию” масс в обстановке революции, но и поставил вопрос о необходимости использования ее в интересах углубления самой революции, сформулировав условие, при котором праздничность становилась бы еще более эффективным инструментом социального творчества» [9, с. 221].
С нашей точки зрения, В. И. Ленину и его соратникам удалось прочувствовать и направить «волну праздничного настроя» в «русло социального творчества»; особую, «праздничную энергию» грамотно использовать на благо революционных перемен. Эффект от преобразований, как показала история нашей страны, «продержался» почти около 70-ти лет. Много это или мало, но свидетельства кино- и фотохроники до сих пор передают тем, кто находится в просмотровом зале или у музейных стендов, настолько мощный заряд энтузиазма, сгусток счастливой усталости и искренней веры в истинность совершаемого, что поражаешься силе напора происходящего. Постановочным путём такого состояния добиться невозможно. Можно сказать, что с верой в лучшее народ, «празднующий революцию», крушил (в прямом и переносном смысле) на своем пути все. Управлять резонансным настроением – задача не из легких, но, как оказывается, вполне разрешимая (при соответствующих условиях и удачных исторических совпадениях).
В качестве одного из теоретиков ранней советской праздничной культуры интересен А. В. Луначарский [цит. по: 9, с. 230–233]. Он писал о бесспорности того, что «главным художественным порождением революции… будут народные празднества», тем более что сама революция устремляется к празднеству, ибо то, во имя чего она совершается, есть «свободная жизнь масс». И далее: «Если организованные массы… устраивают своего рода парад, …не военный, а насыщенный таким содержанием, которое выражало бы идейную сущность, надежды, проклятия и всякие другие эмоции народа, – то те, остальные, неорганизованные массы, …сливаются с этой, организованной, целиком, и, таким образом, можно сказать: весь народ демонстрирует сам перед собой свою душу».
Публикации А. В. Луначарского содержат прямые или косвенные указания на необходимость празднества ритуализировать, то есть, фактически, этот процесс контролировать. Например, «…до тех пор, когда социальная жизнь не приучит массы к …соблюдению высшего порядка, …никак нельзя ждать, чтобы толпа сама по себе могла создать что-нибудь, кроме веселого шума и пестрого колебания…», и далее, настоящее празднество должно быть «…организовано как все на свете, что имеет тенденцию произвести высоко эстетическое впечатление» [9, с. 231–232].
Невозможно удержаться от упоминания еще одного, достаточно яркого документа [цит. по: 9, с. 233], в котором А. В. Луначарский перечисляет элементы, необходимые, по его мнению, чтобы праздник состоялся. А именно:
– готовность масс («действительный подъем масс») (1) (заметим, что нумерация перечислений, содержащаяся в скобках, введена автором данной статьи);
– праздничное настроение («известный минимум…, который вряд ли может найтись во времена слишком голодные и слишком придавленные внешними опасностями») (2);
– профессиональные организаторы (штат организаторов-помощников, которые способны внедряться в народную массу и этой массой руководить «так, чтобы естественный порыв масс и искренний замысел руководителей …сливались между собой») (3).
Акценты, сделанные А. В. Луначарским, очень точны: объект воздействия (1), степень его подготовленности к воздействию (2) и «проводники» воздействия (3). Остальное – дело техники, в нашем случае – ритуала.
На основе имеющихся исторических хроник попробую выяснить: во-первых, насколько использование ритуала стратегически обосновывается самими политиками; во-вторых, в какой степени необходима ритуализация политического праздника как бы изнутри, с точки зрения самих организаторов мероприятия.
В ходе исследования мы считаем целесообразным сделать следующие акценты.
1) Известно, что по причине незначительного исторического праздничного опыта К. Маркс данный вид коммуникации не исследовал так глубоко, как В. И. Ленин; скорее всего, интерес В. И. Ленина к праздничным кампаниям было подкреплен масштабами их воздействия на общественное сознание.
2) В. И. Ленин не случайно отдельным термином обозначает колоссальный резерв ожидания (он называет его «праздничной энергией масс»), который демонстрирует восставшая общественность: вождь оценил коммуникативную силу революционного праздника, а также степень ее манипулятивного воздействия. О значении использования манипулятивных рычагов на массы в момент общественной перестройки говорить не приходится, в такой ситуации максимально используется любой рычаг социализации, в нашем случае важно все массовое, и это – массовый праздник.
3) Находясь в самой гуще событий, В. И. Ленин, видимо, настолько глубоко ощущал «мощь» этой праздничной энергии, что для него стало совершенно очевидной необходимость ее упорядочивания, регулирования, введения в требуемое «русло» и превращение состояния праздничности в средство управления массами.
4) А. В. Луначарский идет дальше: судя по его текстам, и тактически, как политик (в этом случае он прав), чиновник видит желательность слияния народного и политического праздников, что в перспективе даст народу ощущение полной гармонии властвующих и всего остального общества. Скорее всего, его мечты недостижимы, поскольку народный праздник в любые времена имеет некий «запал» свободы. В конце концов, народ и устраивает свой праздник либо во имя желания свободу обрести, либо во имя ликования по ее поводу. Свобода, предлагаемая на политических праздниках, всегда «ранжирована» правящей элитой, свободоносность таких заказных праздников можно поставить под сомнение.
5) Праздники, необходимость в которых видит А. В. Луначарский, носят массовый характер, и это не случайно. Несколько выше уже оговаривалось мощное социальное воздействие праздничных мероприятий, когда уже «организованные» будут вовлекать еще «неорганизованных».
6) А. В. Луначарский прямо указывает, что только благодаря ритуалу массы могут быть «приучены» на «инстинктивном» (читай, животном), уровне к порядку и ритму, рекомендованному аппаратом власти.
7) Значение ритуализации отражено в подборе и подготовке штата помощников, которые умеют «внедряться в массы», руководя ими «неискусственно», чтобы добиться слияния желаний народа и представителей власти. Задача не из легких, но в случае удачи, да еще с помощью манипулятивных техник, достигнутый эффект контроля и воспитания мог бы быть грандиозным (история демонстрировала нам подобные удачи, например, на политических праздниках Северной Кореи или Китая времен Мао Цзэдуна).
Можно выдвинуть еще один аргумент в пользу весомости ритуального воздействия: речь идет о замене старых ритуалов на новые. Представляется возможным дополнить ретроспекцию практик по части создания праздника в советском государстве, обращаясь к истории внедрения новых праздников (по сути, отвлекающих обывателя от привычных ритуальных действий). Вот как оценивает эту замену Л. Т. Ретюнских, когда пишет, что «…самая агрессивная идеологическая война была объявлена не столько содержанию христианского вероучения…, а именно, обрядовой стороне функционирования религиозной жизни. Впрочем, примерно тот же сценарий разыгрывался на Руси и в период наступления христианства на язычество в X–XI веках. Со старым ритуалом связан старый порядок, новый порядок создает новый ритуал, который наполняется сакральным смыслом, чертами священнодействия. Ритуал превращается в игру тогда, когда из сферы необходимого переходит в сферу не-необходимого, причем субъективно необходимого, несущего в себе сакральный смысл. Превращение ритуала в игру – это его десакрализация, изменение внутренних оценок, осознание и ощущение его значимости» [11, с. 82].
Согласно источникам, сама процедура внедрения нового проходила постепенно, но планомерно, необходимо оформлялась соответствующими документами после коллегиального осмысления и одобрения. Например, 23 января (5 февраля) 1918 года на заседании Совета Народных Комиссаров под председательством В. И. Ленина А. В. Луначарский доложил о новом, так называемом «Красном календаре». На следующий день Совнарком принял декрет «О введении в Российской Республике западноевропейского календаря», который отменил религиозные и государственные праздники царской империи и узаконил на государственном уровне следующие: «Кровавое воскресенье» (22 января), День памяти Либкнехта и Люксембург (17 января), День Красной Армии (23 февраля), День работницы (8 марта), День в память Парижской коммуны (18 марта), «Приезд Ленина в Петроград» (16 апреля), Первомай, «Июльские дни» (16 июля), Октябрьская годовщина, День в память московского вооруженного восстания (22 декабря) и др.
13 апреля 1918 года был подписан декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции», в августе 1919 года – декрет «Об объединении театрального дела» со специальным пунктом о народных гуляньях и предписанием о создании при театральном отделе Народного комиссариата просвещения специальной секции по организации массовых гуляний и празднеств [цит. по: 9, с. 236–237].
Перед «молодым» советским массовым праздником ставилась конкретная задача: стирать различия между «возможным» и «желаемым», «настоящим» и «будущим», «будничным» и «праздничным».
Советская власть с первого и до последнего момента своего существования не оставила ни одного «кусочка» праздничного пространства без должного контроля. Митинги, манифестации, демонстрации, символика процессий и пр., кажется, абсолютно все – возможные и невозможные инновационные технологии или нововведения, атрибутика, инструментарии, напрямую или косвенно относящиеся к праздникам, подвергались цензурированию, не говоря о фильтрации кадров. В общем, как подчеркивал советский исследователь праздника А. И. Мазаев, праздничность и праздничное мироощущение не могут быть явлениями частного характера, они преследуют цель «…не ухода от жизни, а, наоборот, более глубокого ее постижения, восприятия мира не с точки зрения бытовой устроенности и упорядоченности, а с точки зрения присутствия в этом мире идеального, “бесконечного” начала, ведущего в будущее» [9, с. 57].
Как утверждает Л. Т. Ретюнских, «ритуал всегда имеет под собой основание естественных, запредельных ему смыслов, он наполнен смысложизненным содержанием. Любой ритуал сопровождается верой в возможность теми или иными действиями повлиять на естественный ход событий, т. е. на жизнь…» [11, с. 83].
Согласно текстам даосских мудрецов, ритуал есть там, где не хватает искренности и естественности, где мир поделен на составляющие не естественно, а искусственно, а ритуал же призван поддерживать эту искусственность: «Ритуал – это праздник отсутствия доверия и преданности», – написано в «Дао дэ цзин» [5, с. 126]. Данная оценка в случае ее применения к советским праздникам будет особым образом «оттенять» их суть.
Осмелимся утверждать, что политический праздник является двухкомпонентной системой, состоящей из элементов, которые можно условно называть «игровое» и «неигровое». Эти компоненты достаточно тесно переплетены, но характерные особенности каждой, их влияние на развитие праздника как института политики, а также зоны и степени влияния на человека и общество различимы. Поскольку к данным условностям буду возвращаться неоднократно, то представляется целесообразным обозначить те смыслы, которые я в них вкладываю в ходе работы.
Итак, если взять за основу высказывания вышеперечисленных исследователей, то праздник, включая в себя игру, как бы сам становится видом игры, в которую вовлечена не группа людей, но целое общество. Представляется необходимым пояснить: игра социальна по своей природе, так как ключевым фактором ее существования являются социальные связи (непременно учтем, что в пространстве игры они временны и конечны). Игра социальна и по содержанию, потому что проигрывается являющаяся ей реальность, как материальная, так и духовная: интересы, ценности, поведенческие эталоны и пр. Отмечу, что игра, а, следовательно, и праздник выполняют коммуникативные функции. И далее, из Л. Т. Ретюнских: «…Если коммуникативность есть способ создания тех или иных конкретных форм бытия, то социальность – его условие. <…> Коммуникативность можно считать процессуальной, а социальность – фактуальной и константной характеристиками бытия, ибо в социальности сохраняется устойчивость культурных образований, которые питают и стимулируют создание новых форм человеческого бытия» [11, с. 127].
Следует напомнить, что множество отношений или действий, подразумевающих в своей структуре элементы игры, достаточно разнообразно: это могут быть соревнования, митинги, шествия и пр. Они насыщены яркими эмоциями: моделируется определенная реальность, участники охвачены – «в унисон стучат сердца» – сопричастностью к происходящему, резонансное существование их объединяет, так сказать, «замоноличивает». На данный момент важно отметить, что именно эмоциональная окрашенность игры и праздника позволяет оценивать данные феномены с позиций свободы и самодостаточности.
Игра главным образом творит неутилитарное: она не только воспроизводит, но и производит, «рождает» новые виды человеческих отношений, особых, со специфическим культурным смыслом. К ним, можно предположить, и относится праздник, дарующий людям возможность проживать ощущение праздничности. Именно поэтому в структурное пространство праздника можно включить составляющую, обозначенную как «игровое». С нашей точки зрения, благодаря «игровому» и по причине имманентности «игрового» системе «праздник», последней присущи все характеристики, свойственные игре.
Например, если основой, формирующим началом игры является фантазия, которая и обусловливает ее эмоциональный мир, то есть основания предположить, что и праздник вполне дает возможность фантазировать. Игра аккумулирует в себе часто невыраженные эмоции, нереализованные идеалы, становясь «формальным выражением или образной оформленностью глубоких, подлинных, искренних чувств. Благодаря работе фантазии эти чувства приобретают овеществленное выражение…» [11, с. 102]. Именно на празднике человеку удается максимально «выплеснуться», освободиться от груза повседневных проблем. Скорее всего, именно обязательная эмоциональная наполненность игрового действия делает праздник привлекательным для человеческого сообщества.
Кроме того, за счет включенности игры в пространство праздника последний дает еще и гарантированное удовольствие. В таком случае, можно говорить о его гедоническом начале. Действительно, праздник «использует» игру, а играние как процесс и состояние души в своем чувственно-эмоциональном бытии связано с удовольствием [11, с. 105]. В качестве примера можно воспользоваться высказыванием Льюиса Кэрролла о логической игре, которая «…не только служит неисчерпаемым источником развлечения (число умозаключений, которые можно вывести, играя в нашу игру, бесконечно)…, но и позволяет игроку узнать нечто новое (правда, в весьма умеренных дозах). Впрочем, вреда от этого нет, поскольку удовольствие она доставляет неизмеримо больше» [6, с. 9]. Кэрролл обозначает приятность, следовательно, желанность игры (следовательно, и праздника). Действительно, игра, а значит и праздник, источают и аккумулируют удовольствия, и именно по этой причине то, что вынуждает страдать, праздником быть не может.
Хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что именно игра, несущая в себе удовольствие, являясь компонентом праздника, и становится основной причиной удовольствия, им приносимого. Возвратимся к Е. Финку, который игру ощущал бытием, порождающим удовольствие. Он писал, что «…игровое удовольствие – не только удовольствие в игре, но и удовольствие от игры, удовольствие от особенного смешения реальности и нереальности» [12, с. 366]. Кроме того, игра способна даровать особое привольное наполнение жизнью, она открывает спектр возможностей: радоваться «от воссоединения противоречий», принимать печаль и «сознательно наслаждаться бессознательным», проживать произвольность. Игра есть творческая деятельность, «блаженное настоящее, не приносящее себя в жертву далекому будущему» [12, с. 381]. Е. Финк объясняет феномен привлекательности игры, перечисляя крайние проявления удовольствия, ею даруемые, как-то: радование жизнью, наслаждение, блаженство, ожидание празднества.
С другой стороны, следует учесть, что среди игр могут быть игры и опасные. Опасность, уровень опасности, как критерии оценивания, могут диктоваться общепринятыми нормами, что становится основанием запрета на игры подобного рода. Тема запретов приводит к мысли о возможности создать некую логическую цепочку, которая сможет в полной мере отразить специфику взаимозависимости «игра – праздник».
Прежде всего, необходимо оговориться, что подобные рассуждения относятся к той части праздничных отношений, которые, согласно сценарию действа, регламентируются исключительно сферой игрового. Итак, правила праздника (в пространстве «игрового») диктуются, соответственно, правилами игры; правила игры, в свою очередь, корректируются законами морали, которая основана на требованиях социальной стабильности, призванной оберегать человеческую жизнь. Иными словами, признавая ценной жизнь, общество формирует «механизмы социального осуществления и овеществления этой ценности – здесь и безопасность, и правовая защита и т. п. Поэтому глобальным, собственно бытийным, ограничителем игры остается все-таки мораль» [11, с. 156].
Кроме того, есть некоторые игры, «как-бы-бесцельные» по отношению к иным формам бытия. В таком случае само удовольствие, получаемое от игры (или самого процесса), «составляет ее [игры] внутреннюю единственно значимую цель» [11, с. 106]. Даже в таком случае особых противоречий в цепочке «игра – праздник» не наблюдается. Действительно, празднику всегда свойственно целеполагание, иначе искажается его природа. Мы считаем, что в такой ситуации смысловое назначение праздника (празднования) не обнаруживает и сам индивид или группа, в это праздник вовлеченные. Причин для недопонимания может быть достаточно – например, уровень образованности и воспитания, политическая подоплека, эмоциональное состояние и пр.
В данный момент уместно уточнить смысл понятия «неигровое». Итак, «неигровое» – это та часть праздничного действа, через которую возможно на общество «выводить» политические цели, идеологические задачи, явно или скрыто формировать идеалы и ценности, эталоны поведения, необходимые правящей элите.
Именно с этой позиции – сочетания «игрового» и политического («неигрового») – люди могут судить, случился ли праздник. Возникает вопрос: каковы должны быть эти пропорции, чтобы праздник удался, то есть был принят и осмыслен большинством как необходимый, самодостаточный, завершенный, зрелый?
На политическом празднике всегда присутствует (зримо и необязательно) разнообразно значимый компонент праздничного устроения. Именно присутствие органов охраны в массе празднующих позволяет говорить о проблеме баланса «игрового» и «неигрового» как о возможном (или невозможном) принятии праздничного действа всеми и согласованно.
Можно предположить, что вышеуказанный баланс становится одной из (среди прочих) причин присутствия «праздничной охраны», а именно:
– во-первых, празднующих необходимо оберегать, предотвращая преступные действия «в прямом смысле» или «чистом виде», когда существует опасность воспользоваться скоплением народа, рассредоточенным вниманием отдыхающих, рассеянностью или расслабленностью от полученных удовольствий;
– во-вторых, учитывается проявление откровенно политического: праздник может служить площадкой для агитации за смену существующего порядка или правящей элиты. В таком случае органы охраны предотвращают политические преступления, локализуя преступников «по политической», что вполне возможно по природе праздника как «территории свободы», особенно, если корни праздника – народные.
Зададимся целью сравнить праздничные пропорции игрового и политического. При этом предположим, что компонент политический, то есть «неигровой», выражен объемнее, а именно:
– необходимо учитывается ситуация, при которой праздник может выйти за пределы рекомендованного, срежиссированного состояния, вследствие чего высока вероятность утратить контроль за поведением вовлеченной в него массы людей;
– праздник тщательно ритуализируется, становясь своего рода «каналом» манипулятивного воспитания, что также свидетельствует о значительной доле политического.
В таком случае приемлемо предложить еще одну классификацию праздников [см.: 1; 2] – по степени политизации:
– политические праздники: максимум ритуализации как провозглашение и поддержание существующего порядка;
– неполитические праздники: в большей степени разрешается «игровое», чтобы массы получили откровенное удовольствие. Подобное действие сложнее организовать: без должного контроля со стороны правящих элит праздничная ситуация грозит перерасти в бунт недовольных. В таком случае мы имеем тщательно камуфлированные политические ритуалы.
Таким образом, чем более праздник подконтролен, тем в нем меньше игры, тем более он непонятен и, следовательно, тем больше снижается степень настроя и удовольствий, от него получаемых. Но именно в этом видится ключевое назначение праздника, и именно игровое начало по сути дает жизнь данному культурному институту.
Список литературы
1. Баталов Э. Воображение и революция // Вопросы философии. – 1972. – № 1. – С. 68–80.
2. Бенифанд А. В. Праздник: сущность, история, современность. – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1986. – 142 с.
3. Генкин Д. М. Массовые праздники. – М.: Просвещение, 1975. – 140 с.
4. Демидов А. Б. Феномены человеческого бытия. – Минск: Армита – Маркетинг, Менеджмент, 1997. – 192 с.
5. Древнекитайская философия: Собрание текстов: В 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1972. – 361 с.
6. Кэрролл Л. Логическая игра. – М.: Наука, 1991. – 192 с.
7. Лаврикова И. Н. Политический праздник в системе культуры. – Тверь: Колледж им. А. Н. Коняева, 2013. – 242 с.
8. Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции // Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 11. – М.: Издательство политической литературы, 1960. – С. 1–131.
9. Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление. – М.: Наука, 1978. – 392 с.
10. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. – М.: Издательство АСТ, 2003. – 526 с.
11. Ретюнских Л. Т. Философия игры. – М.: Вузовская книга, 2002. – 256 с.
12. Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии: Переводы. – М.: Прогресс, 1988. – С. 357–403.
References
1. Batalov E. Imagination and Revolution [Voobrazhenie i revolyutsiya]. Voprosy filosofii (Problems of Philosophy), 1972, № 1, pp. 68–80.
2. Benifand A. V. Holiday: Essence, History, Modernity [Prazdnik: suschnost, istoriya, sovremennost]. Krasnoyarsk, Izdatelstvo Krasnoyarskogo universiteta, 1986, 142 p.
3. Genkin D. M. Mass Holidays [Massovye prazdniki]. Moscow, Prosveschenie, 1975, 140 p.
4. Demidov A. B. Phenomena of Human Existence [Fenomeny chelovecheskogo bytiya]. Minsk, Armita – Marketing, Menedzhment, 1997, 192 p.
5. Ancient Chinese Philosophy: Collected Texts. In 2 vol. Vol. 1 [Drevnekitayskaya filosofiya: Sobranie tekstov. V 2 t. T. 1]. Moscow, Mysl, 1979, 361 p.
6. Carroll L. Logic Game [Logicheskaya igra]. Moscow, Nauka, 1991, 192 p.
7. Lavrikova I. N. Political Holiday in the System of Culture [Politicheskiy prazdnik v sisteme kultury]. Tver, Kolledzh imeni A. N. Konyaeva, 2013, 242 p.
8. Lenin V. I. Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution [Dve taktiki sotsial-demokratii v demokraticheskoy revolyutsii]. Polnoe sobranie sochineniy. Izd. 5. T. 11 (Complete Works. Issue 5. Vol. 11). Moscow, Izdatelstvo politicheskoy literatury, 1960, pp. 1–131.
9. Mazaev A. I. Holiday as a Social and Artistic Phenomenon [Prazdnik kak sotsialno-khudozhestvennoe yavlenie]. Moscow, Nauka, 1978, 392 p.
10. Marcuse H. Eros and Civilization. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society [Eros i tsivilizatsiya. Odnomernyy chelovek: Issledovanie ideologii razvitogo industrialnogo obschestva]. Moscow, Izdatelstvo AST, 2003, 526 p.
11. Retyunskikh L. T. Philosophy of Game [Filosofiya igry]. Moscow, Vuzovskaya kniga, 2002, 256 p.
12. Fink E. The Main Phenomena of Human Existence [Osnovnye fenomeny chelovecheskogo bytiya]. Problema cheloveka v zapadnoy filosofii: perevody (The Problem of Man in Western Philosophy: Translations). Moscow, Progress, 1988, pp. 357–403.
Ссылка на статью:
Лаврикова И. Н. Культура праздника: между игрой и не-игрой // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2018. – № 4. – С. 69–86. URL: http://fikio.ru/?p=3384.
© И. Н. Лаврикова, 2018