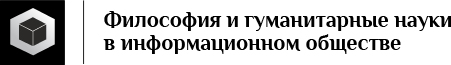УДК 304.4
Максимович Валерий Александрович – Институт философии Национальной академии наук Беларуси, заведующий отделом философии литературы и эстетики, доктор филологических наук, профессор, Минск, Беларусь.
Email: valery.maximovich@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9062-6984
Авторское резюме
Состояние вопроса: Временные социокультурные трансформации представляют собой масштабные интерактивные преобразования системного типа, имеющие тотальный характер. Они напрямую влияют на процесс становления сознания, формирование мировоззренческих установок, норм и принципов жизнедеятельности.
Результаты: Обращение к понятию «социокультурная трансформация» открывает возможность более рационального осознания изменений, происходящих в обществе и культуре, и компетентного управленческого воздействия с целью стимулирования, торможения или коррекции процесса в целом или каких-либо его отдельных структурных элементов. Социальная трансформация как амбивалентный процесс оказывает одновременно и стихийно развивающее, и целенаправленное воздействие на содержание и динамику процесса. Исторический опыт, конкретные примеры модернизационных изменений свидетельствуют о необязательно прогрессивной целенаправленности социальной трансформации. Сам процесс социокультурной трансформации непостоянен по содержанию и темпам развития: в нем ожидаемые качества могут быть стихийно возникающими, не поддающимися прогнозированию и алгоритмизации. В каждой конкретной сфере культуры трансформация происходит специфично, имеет свои скорости и объемы и, безусловно, пределы изменений.
Выводы: В сегодняшней непростой ситуации наиболее приемлемой и целесообразной остается задача культивирования консервативно-охранительных интенций, связанных с укреплением, восстановлением и развитием тех культурных оснований, которые прошли проверку временем и сохранили в себе огромный культурно-созидательный потенциал. Данная задача напрямую связана с противодействием унифицирующим трансформациям информационного общества, ведущим к виртуализации культурных форм и подмене их видимостями, мнимостями, симулякрами. Без этого невозможен собственно процесс преемственности и развитие инновационной составляющей.
Ключевые слова: социокультурная трансформация; социокультурная адаптация; социокод; кризис культуры; ценностные приоритеты.
Sociocultural Transformations in the Context of Information Society
Maksimovich Valery Aleksandrovich – Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of the Department of Philosophy of Literature and Aesthetics, Doctor of Philology, Professor, Minsk, Belarus.
Email: valery.maximovich@gmail.com
Abstract
Background: Temporary sociocultural transformations are large-scale interactive changes of a systemic type that have a total character. They directly affect the process of the formation of consciousness, ideological attitudes, norms and principles of life.
Results: Turning to the concept of “sociocultural transformation” gives the possibility of a more rational understanding of the changes taking place in society and culture, and competent managerial influence in order to stimulate, inhibit or correct the process as a whole or any of its individual structural elements. Social transformation as an ambivalent process has both a spontaneously developing and purposeful impact on the content and dynamics of the process. Historical experience, concrete examples of modernization changes indicate an optional progressive purposefulness of social transformation. The process of sociocultural transformation is unstable in terms of content and pace of development: the expected qualities can be spontaneously arising, not amenable to forecasting and algorithms. In each particular sphere of culture, transformation takes place in a specific way, has its own rate and extent and, of course, change limits.
Conclusion: In contemporary situation, the most acceptable and expedient task is to cultivate conservative-protective intentions related to the strengthening, restoration and development of those cultural foundations that have passed the test of time and retained a huge cultural and creative potential. This task is directly related to countering the unifying transformations of information society, leading to the virtualization of cultural forms and their substitution with semblances, fakes and simulacra. Without such countering, the actual process of continuity and the development of an innovative component is impossible.
Keywords: sociocultural transformation; sociocultural adaptation; sociocode; cultural crisis; value priorities.
Культура любого общества может рассматриваться не изолированно, а только с учетом всевозможных изменений в широком спектре происходящих процессов, что составляет в своей совокупности социокультурную динамику данной общественной системы. Важной частью этих изменений являются социокультурные трансформации (от лат. transformatio – «преобразование, изменение формы, превращение, преображение»), напрямую влияющие на всю социальную систему, на каждую ее подсистему. Трансформация в сфере общественных практик подразумевает прежде всего действие или процесс изменения внутренней природы, характера социума, модификации его сущностных компонентов, всех сфер общественной жизни, что, в итоге, может приобрести как прогрессивную, так и регрессивную направленность. Отличительный признак трансформации заключен в преобразовании форм и содержания общественной жизни, ее институциональной сферы, норм, ценностей, менталитета и других сторон социума.
В том случае, когда изменениям подвергаются все стороны социума, мы имеем дело с «системной трансформацией» – перманентными, динамически развивающимися преобразованиями общественных структур при одновременном функционировании как старых, так и новых форм. При этом происходит постепенная трансформация устоявшихся структур, возникают новые социальные структуры [см.: 1].
Следует заметить, что само понятие социокультурной трансформации многогранно и полифункционально. Под «социальной трансформацией» понимается прежде всего процесс качественного изменения социума в целом или отдельных его социально значимых сегментов. Цели и результаты этого процесса могут приобретать двунаправленный характер, проявляющийся или в качественно более выразительной структурной организации трансформируемого объекта, или же в организации более низкой по сравнению с исходной.
Социокультурные трансформации представляют собой масштабные интерактивные социокультурные преобразования системного типа, имеющие тотальный характер. В большей степени они зависят от глобализационных процессов, напрямую влияющих на продвижение общества к новой стадии социокультурного развития. При этом создаются принципиально иные условия, в которых складываются и развиваются социальные отношения, возникают новые принципы взаимодействия, жизненные цели и ценностные ориентации, мотивы деятельности, эстетические вкусы, предпочтения и др. В культуре отражается процесс становления меняющегося сознания, сдвиг мировоззренческих установок, норм и принципов жизнедеятельности.
Социокультурная динамика любого общества проявляет себя в том числе посредством межкультурной коммуникации, что приводит к изменению культурного пространства и напрямую влияет на ценностное ядро данной культуры, ее субстанциальные основания, что может, при определенных условиях, привести к нежелательным последствиям, в том числе к деформации социокода общества. Все эти деструктивные проявления в культуре напрямую связываются с человеком, его ролью и значимостью в социокультурной парадигме времени. Личность, как известно, является совокупностью субъективного опыта, преломленного через культурные формы, результатом выбора поведенческих моделей, моделей восприятия и чувствования, выработанных в процессе культурогенеза. Благодаря усвоению им как носителем социокультурного кода традиционных социокультурных ценностей, социального опыта, передаваемых от старших поколений младшим, становится возможным налаживание межпоколенческого диалога, межпоколенческой связи. Личности как одному из самых важных субъектов, ориентиров социокультурного развития отводится первостепенная роль, поскольку изменение внутреннего статуса личности предшествует изменению самого общества.
Большое значение в живом энергетическом насыщении культурного поля имеет и эмоционально-чувственная составляющая. «Культура как особая среда человеческого существования, как социотворческий феномен, как результат духовно-материальной деятельности людей формируется, существует и развивается, в первую очередь, за счет человеческих чувств и переживаний» [2, с. 119]. Т. Парсонс считает, что поведение человека осуществляется в трех конфигурациях. Во-первых, ориентация действий любого актора – это дифференцированная и интегрированная система личности. Во-вторых, действие отдельного актора входит в процесс взаимодействия с другими людьми, образуя социальную систему. В-третьих, объекты ориентации, культурные эталоны взаимодействия задаются культурой [см.: 3, с. 421–423].
Главным условием социокультурной трансформации является смена идейных установок и ценностных приоритетов. Социокультурная реальность находится в состоянии перманентного движения, обладает при этом динамической изменчивостью, что, в свою очередь, актуализирует проблему сохранения и трансляции абсолютных (вечных) ценностей, которые гармонизируют общественные отношения, придают целостность интенциональным способам деятельности людей и их отношению к миру. Человек в силу своей ангажированности находится в непрерывном поиске «упорядочивающих духовных энергий», оптимальных возможностей самоосуществления, самореализации, согласовывая и корректируя свои действия как с объективно существующими условиями, так и с находящимися в зоне желаний, усилий, смыслов и ценностей, составляющими в совокупности основу жизненной стратегии. Человеческий интеллект и сознание имеют метафизическую природу в том смысле, что стремятся в условиях перманентных социокультурных трансформаций вырабатывать и формировать (кодифицировать и рационализировать) определенные принципы, понятия, нормы, позволяющие ориентироваться в сложной, многомерной пространственно-временной системе социальных процессов. Смысложизненные ценности выступают в качестве регулятивного механизма, имманентно присутствующего в мыслительном пространстве духовного бытия и охватывающего бесконечно новые возможности человека. Это является важнейшим фактором формирования личностной структуры, интегрирующим различные пласты бытия человека в единую систему и обеспечивающим обретение им собственной смысловой ниши и сохранение самотождественности в потоке разнообразных внешних детерминаций [см.: 4, с. 3].
Социокультурные трансформации напрямую связаны с «социокультурным взаимодействием – межгрупповым и межиндивидуальным. Специфика социокультурных отношений заключается в том, что в них имеет место синтез социальных отношений и культуры. Этот процесс отражает меру владения культурным богатством общества и применения его в социальной деятельности отдельного индивида, конкретной социально-профессиональной группой и обществом в целом» [5, с. 175]. Социокультурное взаимодействие лежит в основе «микродинамических изменений и процессов, происходящих в контексте совместного существования людей на том уровне анализа, который принято обозначать как повседневность» [6, с. 72].
Стоит отметить, что повседневность (обыденность) имеет большое значение для человека. В. П. Козырьков обращает внимание на то, что «обыденный мир есть это сугубо человеческий, индивидуализированный, социокультурный способ освоения времени. Обыденность “привязывает” человека ко времени, наполняя его физические параметры однообразными (или веховыми), непрерывно повторяющимися (или преходящими) видами деятельности (или покоя)» [7, с. 54]. В самой незаурядной повседневности создаются материальные и духовные ценности, которые порой приобретают характер творческих открытий, прорывов, в высшей степени инноваций, выходящих далеко за рамки обыденности.
Социокультурная адаптация, как и социальная адаптация в целом, по своей внутренней направленности – процесс не только перманентный, но и достаточно дискретный. Он во многом зависит от субъективных предпочтений и предрасположенностей, влияющих на восприятие и освоение социокультурной среды в конкретных, как правило, нестандартных ситуациях. На степень социокультурной адаптации также оказывают свое влияние и постепенно возникающие потребности индивида, напрямую зависимые от внутренних изменений в нем самом и по большей мере обусловленные характером взаимосвязи с конкретной социокультурной средой. В данном случае принятые нормативы и предписания, заданные и контролируемые обществом, могут вступать в противоречие с «горизонтом ожидания» субъекта адаптации. Нормативно-регулирующие рычаги и механизмы воздействия среды объективно вызывают активное стремление к преодолению возникших преград и к установлению сбалансированных и гармонизированных отношений во взаимодействии сторон.
Обращение к понятию «социокультурная трансформация» открывает возможность более рационального осознания изменений, происходящих в обществе и культуре, и компетентного управленческого воздействия с целью стимулирования, торможения или коррекции процесса в целом или каких-либо его отдельных структурных элементов. В этой связи В. В. Кравченко отмечает, что «социальные трансформации оказываются показателями тех, по преимуществу, необратимых изменений, которые придают характерные черты современному человеческому обществу как целому, а также – отдельным социокультурным образованиям, которые, с одной стороны, испытывают влияние глобализирующих и унифицирующих тенденций, а с другой – выявляют уникальные национально-этнические и региональные черты» [8, c. 83]. Согласно Кравченко, все большее количество людей ориентируется на известные или возобновленные программы социокода (аналога генетического кода), которые напрямую сегодня связаны с этническим менталитетом. В основе складывания нового глобального типа социокода лежат глубочайшие социокультурные и культурно-антропологические преобразования, связанные с достижениями информационного общества, результатами научно-технических инноваций, компьютеризацией не только производственно-экономической сферы, но и обыденной жизни людей. По определению М. К. Петрова, социокод интегрирует знаковые системы культуры, составляет механизм регламентации ее содержания и развития исторически сложившегося культурного типа [см.: 9, с. 45]. Социокод, по существу, выступает в роли базовой знаковой реалии наличествующей культуры, способствующей сохранению ее функциональных связей и отношений и обеспечивающей ее единство с традицией и целостность восприятия различных социальных систем и базовых типов отношений. Социокод трактуется как «свернутая» модель общения, общезначимый регулятор деятельности, механизм трансляции ценностей. Это устойчивое ядро цивилизации и «переведенный в общественное достояние продукт деятельности», способ существования «социально-генетической» памяти, наследующей культурно-эволюционные механизмы. «Социокоды для большинства людей оказываются проявленными в социальной оболочке, “одежде”, принятой “униформе” или “дресс-коде”, помогающих существовать и общаться с себе подобными. Базовые социокоды, например, стили одежды (классика, офисный, спортивный), используются каждым социальным слоем по мере необходимости; при этом всегда есть предпочтительный для отдельного индивида, одновременно признаваемый в том или ином сообществе. Зачастую индивидуальной редукции подвергаются моральные аспекты социокода, которые дают возможность личности осуществлять элементарный выбор собственного поведения и способствуют ее индивидуальному социальному “выживанию”» [цит. по: 8, с. 79–80].
Тезаурус социокультуры как целого сохраняет свою полноту благодаря культурной направленности данного общества, реализующего специфический, особенный культурный архетип. «Таким образом, если культурная трансформация, затрагивая разные сферы культуры, сохраняет ее культурный архетип, это позволяет воссоздать в новых условиях базисные для данной культуры формы социального взаимодействия, культурные темы и эстетические системы, формирующие социально одобряемые поведенческие стратегии, создающие в данной культуре тот конкретно-исторический тип человека, который способен формировать, воспринимать и сохранять эту культуру. Сохранение антропологического типа в социокультурных трансформациях позволяет сохранить тождество культуры и обеспечить ее трансмиссию в социокультурной динамике» [10].
С учетом реального потенциала самосовершенствования, применения инноваций в условиях существующего многообразия культурно-антропологического наследия, деятельности как отдельного социокультурного индивида, так и целого ряда социальных групп и их элит, трансформации объективно ведут к постепенному изменению социокода данной общности в политической, социальной, художественной, научной и других областях. Трансформационный процесс имеет в качестве изначального посыла субъективированную компоненту, связанную с кардинальным «обновлением ума» (А. Пушкин) под нарастающим влиянием необратимо изменяющихся объективных обстоятельств. С течением времени, согласно утверждению К. Маркса, «идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой». Антропологический аспект глубокой трансформации социогуманитарных основ общественного развития проявляется в том, что в «рамках данного социума перестает формироваться тот конкретно-исторический тип человека, который способен формировать и творчески воссоздавать данную культуру. Таким образом, именно антропологический анализ социокультурных трансформаций представляется наиболее перспективным для уяснения возможностей сохранений культурной идентичности в условиях интенсивной межкультурной коммуникации» [10].
Социальная трансформация как амбивалентный процесс оказывает одновременно и стихийно развивающее, и целенаправленное воздействие на содержание и динамику процесса. Конкретно-исторические примеры существования общества, а также результаты модернизационных изменений, имеющих место быть, свидетельствуют о не обязательно прогрессивной целенаправленности социальной трансформации. «Трансформации в социокультурных институтах определенно самые сложные и по последствиям своим многозначны и труднопредсказуемы для современников и еще более – для потомков. Здесь часто самые благонамеренные замыслы могут быть в значительной мере нейтрализованы непредвиденными обстоятельствами или даже привести к обратным результатам. Сцепленность, органическая взаимозависимость феноменов культуры как живого организма требуют особой тонкости предваряющего культурологического дискурса и управленческих решений, духовно-нравственной их обоснованности. Сам процесс социальной трансформации непостоянен по содержанию и темпам развития, ожидаемые качества в нем прирастают неожиданными» [11, с. 142]. В каждой конкретной сфере культуры трансформация происходит специфично, имеет свои скорости и объемы и, безусловно, пределы изменений.
Конструктивные, приносящие положительные результаты трансформации с необходимостью опираются на традиционные национальные ценности. На их основе генерируются усовершенствования, создаются новые культурные продукты, бренды, артефакты, формируются отношения с иными свойствами и качествами. При этом традиция понимается не как некая рутинная константность, не способная к прогрессивным изменениям. Напротив, традиция в условиях стремительно изменяющейся реальности нацелена в будущее благодаря своему историко-культурному, творческому, духовно-созидающему потенциалу, тесной включенности в универсальные связи социального и естественно-природного миров. «При относительно “мягком” развитии истории традиционные ценности устойчивы к влияниям времени и в течение жизни одного-двух поколений изменения в них незаметны. Трансформации деструктивные ищут опоры в несоприродных ценностях и разрушают систему национальной культуры. Они протекают с большим напряжением и в высоком темпе и даже взрывообразно и нацелены на приживление чуждого» [11, с. 142]. Они характеризуются неопределенностью, неравновесностью, неустойчивостью, бифуркационной креативной потенциальностью. Конструктивные трансформации тесно связаны с процессами прогнозирования и моделирования, четкого осознания общих интересов и ценностей, необходимостью обретения новых смыслов вовлеченного в процесс модернизации общества. В основе всех этих пертурбаций должна лежать идея усовершенствования, глобальная созидательная стратегия, базирующаяся на тесном взаимодействии общечеловеческого, национального и социального в системе ценностного восприятия мира. Направляющие векторы этого развития полагаются на конструктивное (конституирующееся) знание, составляющее основу для логического конструирования, моделирования и использования в социальной прагматике. Определяющим основанием деструктивной трансформации выступает унифицирующая трансформация, «…она служит стартовой площадкой для заключительной и последней цели – виртуализации культуры, подмены ее энергонесущих ценностей видимостями, мнимостями. Это уже роковая фаза – экспроприация культуры как некоего национально-особенного окна в мир – внешний и внутренний» [11, с. 144].
При разнообразии подходов к пониманию отмеченных явлений следует все же различать концепты «кризис культуры» и «социокультурная трансформация». Оба этих понятия, безусловно, характеризуют динамику культуры, процессы изменений, происходящих в ней. Но у них имеется кардинальное отличие. Некоторые исследователи полагают, что «социокультурная трансформация прежде всего связана с переходом системы культуры в новое качество, в то время как кризис культуры представляет собой изменения в самой культуре, без смены ее качественных характеристик, <…> не каждый кризис культуры может привести к социокультурной трансформации. Оба этих понятия характеризуют динамику культуры, процессы изменений, происходящих в ней» [12, с. 212].
Е. А. Ерохина понимает социокультурную динамику как «…диалектическое единство цивилизационного процесса и социокультурной трансформации конкретного (отдельного) общества. Понятие цивилизационного процесса отражает преобразование географического пространства в социокультурное в результате деятельного освоения определенной территории. Понятие социокультурной трансформации отражает преобразование свойств (качеств) отдельного общества под влиянием исторического процесса» [13, с. 18–19].
Согласно Ерохиной, социокультурная трансформация «представляет собой движение общества от традиции к современности, то есть, по сути, линейный прогресс социальных форм, имеющий универсальное значение. Цивилизационный же процесс отражает локальную специфику социокультурной трансформации, иными словами, выражает то особенное, что привносит данная цивилизация в общее движение по единому пути развития» [цит. по: 10]. «Социально-историческая трансформация конкретных обществ… представляет собой систему, которая включает две стороны: усложнение и упрощение, прогресс и регресс, изменчивость и устойчивость» [13, с. 52]. Автор утверждает, что социокультурная трансформация оказывается усложнением общества и развитием новых форм, в которых особенным образом преломляются изменения, происходящие в культурообразующих структурах общества.
Противоположную точку зрения высказывает А. Н. Тарасов. В статье, посвященной концепции социокультурной трансформации, автор указывает, что «Кризис культуры представляет собой обязательный и закономерный этап в развитии любой культуры <…> Дальнейшее развитие культуры возможно… в двух направлениях. Первое из них – это изменение, приспособление культурной системы к новым условиям… Однако возможен и второй вариант, когда культура не способна адаптироваться к новым условиям, не сможет перестроиться, и в этом случае мы вправе сказать о “кризисе кризисов”, т. е. о необходимости кардинального изменения всей существующей культурной системы. Именно такие периоды, на наш взгляд, и следует определять как социокультурную трансформацию» [12, с. 211–212]. По мнению Тарасова, «если кризис культуры характеризует изменения структурного характера, изменения части, то социокультурная трансформация характеризует изменения системного характера, изменения целого» [12, с. 213]. Автор выделяет определенные закономерности перехода культуры в новое качество, которые приемлемы для всех эпох: социокультурная детерминация, закономерности протекания и проявления трансформации, общность итогов социокультурной трансформации. Он подчеркивает, что исследование этих теоретических позиций с методологической точки зрения имеет важное значение для теории культуры.
Автор предлагает свою характеристику социокультурной детерминации, которая, по его убеждению, «ставит своей целью выделить конкретные причины, которые оказали влияние на процессы перехода от одной эпохи культуры к другой. Любое явление действительности всегда детерминировано конкретно-историческими условиями. Анализируя эти условия в целом, мы можем сказать, что они носят социально-экономический характер. Именно социально-экономические условия приводят к изменениям в системе культуры. В зависимости от того, насколько масштабный характер будут иметь эти социально-экономические изменения, мы можем говорить либо о кризисе культуры, либо о социокультурной трансформации. Соответственно, чем масштабнее будут эти социально-экономические изменения, тем масштабнее будет кризис культуры. Если же эти изменения носят принципиально иной, качественно отличный от прежних, характер, то мы вправе говорить о социокультурной трансформации» [14, с. 205].
«Анализ закономерностей протекания и проявления социокультурной трансформации нацелен на выявление общих характеристик, отражающих принципы построения культурной среды в переходный период. С позиций теории культуры к числу таких закономерностей следует, на наш взгляд, относить: усиление субъективных тенденций в культуре, явный разрыв с предшествующей культурной традицией, эклектизм, культурный релятивизм и плюрализм, иронизм» [14, с. 205]. В ситуации критической неразрешенности возрастает культуростроительная роль ценностно-нормативных, художественно-символических, коммуникативных компонентов, призванных способствовать реорганизации и видоизменению транзитивной культуры. По словам В. Ионесова, «способность этих универсалий упорядочивать, артикулировать, сохранять и ретранслировать смыслообразы переходности позволяет рассматривать их как адаптивные факторы и механизмы семиотической переквалификации, социализации и реорганизации культуры» [15, с. 11].
В любом случае подходы к определению сущности кризисов и социокультурных трансформаций должны отличаться взвешенностью подходов, комплексным учетом всех имеющихся факторов и особенностей. На наш взгляд, во многом аргументированными и обоснованными выступают доводы П. А. Сорокина, американского социолога русского происхождения, который занимался вопросами общественного развития, что нашло отражение в его четырехтомном труде «Социальная и культурная динамика» (1937–1941), и ввел понятие социокультурной динамики в гуманитарную науку XX века. Ученый утверждал, что «…социальный мир складывается из цельных социокультурных систем (суперсистем), которые отличаются внутренним единством. Эта внутренняя интеграция обеспечивается двойным образом: то, что относится к обществу (социальная часть системы) – связано причинно-функциональным единством. То, что относится к культуре – логической интеграцией, посредством значений (через аналогии, исключения, общность стиля и т. д.). Чтобы понять происходящие в обществе процессы, необходимо не просто установить функциональную связь отдельных единиц, а выявить их логико-смысловое единство» [16, с. 109]. В указанное понятие Сорокин включает все социокультурные процессы, которые происходят в обществе. При этом автор обращает внимание, что «под процессом понимается любой вид движения, модификация, преобразование, перестройка или «эволюция», короче говоря, любое изменение данного логического субъекта во времени, касается ли оно изменения его места в пространстве, или речь идет о модификации его количественных или качественных аспектов» [17, с. 98].
Проведенный Сорокиным анализ применим к социокультурному процессу. В его исследовании Сорокин выделяет следующие его характеристики: то, что изменяется или находится в процессе («единица»); временные отношения, пространственные отношения, направление изменений [17, с. 97].
Особо внимание уделяется характеристике исследуемой социокультурной «единицы»: «Несмотря на то, что эта единица претерпевает изменение или находится в процессе, она должна мыслиться как сохраняющая свою идентичность в течение всего процесса, в который вовлечена. Любая единица существует до тех пор, пока сохраняет свою тождественность или идентичность» [17, с. 98].
Внутренние причины социокультурных трансформаций имеют доминантный характер, в отличие от причин внешних. «Внешнее воздействие на сложную социокультурную систему запускает различные механизмы реагирования на это воздействие, которые активизируются или впервые создаются на основе действенных констант социокультуры, то есть определяются ее социокультурным пространством и временем. Социокультурное пространство генерирует фундаментальные условия включения коллективных субъектов в практическую деятельность, обеспечивая социальное развитие общества. Социокультурное время как одна из базовых констант социокультурного бытия задает условия социокультурной трансформации конкретных обществ» [цит. по: 10].
Социокультурная трансформация в своем проявлении имеет тотальный характер, поэтому при изучении трансформационных процессов социокультурной динамики можно рассматривать социальные и культурные трансформации отдельно. По утверждению Ерохиной, «…если культурная динамика отражает процесс смены типа воспроизводства культуры, то социальная динамика – смену типа социальной организации общества» [13, с. 118].
В современной социальной философии социальные трансформации представляются как «наиболее фундаментальные, коренные преобразования в обществе, которые, затрагивая все его стороны, существенно изменяют способ и принципы социальной организации, социальную структуру и характер взаимосвязей социальных субъектов» [18, с. 15]. Социосистемные социальные трансформации разделяют на «структурные изменения в современном обществе, изменение характера и принципов социальных взаимодействий, трансформация социальных норм и ценностей» [18, с. 9].
Трансформации социальной структуры общества заключаются в появлении новых социальных групп, редукции старых, а также в смене роли и места социальной группы в социальном пространстве. Трансформация социальных связей представляет собой направленное изменение социальных отношений и взаимодействий в обществе. Трансформация социальных норм какого-либо общества заключается в изменении регулирующего принципа существования и функционирования социального пространства. Как таковой, этот принцип выражается в культурном архетипе как одном из элементов целостного образа, представляющего в символической форме антропологический тип конкретной культуры. Сохранение культурной целостности данного общества возможно, если трансформации социальных норм происходят в тех границах, которые задаются культурным архетипом. Нормы социальной жизни, где отражаются и реализуются разные варианты культурного архетипа, делают возможным как трансмиссию культуры, так и развитие новых потенций, имеющих все шансы для своего воплощения в жизнь [см.: 10].
Социальные трансформации всегда сопровождаются трансформациями культуры, которые, впрочем, не всегда имеют синхронный характер, единую форму выражения и предвидения результата. Современный российский исследователь В. И. Ионесов отмечает: «Трансформация культуры есть переходный процесс, в котором осуществляется радикальное, качественное преобразование культурной системы, направленное на преодоление и выстраивание границ посредством структурирования, реорганизации и опредмечивания культурных сущностей» [15, с. 10].
Упомянутый нами ранее П. Сорокин интегрирует в понятии социокультурной динамики любые изменения в обществе, используя общенаучное значение термина «динамика». Можно согласиться с мнением Н. Ищенко, которая предлагает использовать этот подход в изучении социокультурных трансформаций и считает «социокультурной трансформацией социетальной системы такие изменения, которые затрагивают все общество и большую часть его подсистем и приводят в результате к качественному изменению социокультуры, с сохранением, однако же, ее тождественности на всех этапах трансформации» [10].
Следует отметить, что «социокультурная трансформация характеризуется радикальными экспериментами в системе культуры. Можно сказать, что в этом отношении социокультурная трансформация есть процесс полного снижения уровня системно-иерархической структурированности, сложности и полифункциональности культурного комплекса в целом, то есть полная деградация данной культуры как системы. Вместе с тем, данный переход представляется явлением необходимым и закономерным. Подобные периоды в динамике культуры нужны, прежде всего, для того, чтобы культура имела возможность оттолкнуться, выйти на новый качественный уровень своего развития антропогенной направленности» [19].
Все сказанное лишний раз служит подтверждением того, что в сегодняшней непростой ситуации наиболее приемлемой и целесообразной остается задача культивирования консервативно-охранительных интенций, связанных с укреплением, восстановлением и развитием тех культурных оснований, которые прошли проверку временем и сохранили в себе огромный культурно-созидательный потенциал. Данная задача напрямую связана с противодействием унифицирующим трансформациям информационного общества, ведущим к виртуализации культурных форм и подмене их видимостями, мнимостями, симулякрами. Культура должна выполнять свою фундаментальную задачу – развивать «народозащитную» функцию, служить объединительным началом, культивировать духовно-нравственные идеалы, усиливать традиционную духовность как системообразующее основание жизни общества, без чего невозможен собственно процесс преемственности и развитие инновационной составляющей, воспринимаемой прежде всего в качестве определенной модели организации ценностно-мировоззренческой системы, поведения и деятельности личности. И на этом нелегком пути важная, ответственная миссия ложится на национальную элиту, ученых-гуманитариев, призванных с опорой на историческое сознание брать на себя ответственность принятия стратегических решений, в том числе и в плане формирования культурной стратегии, активизации духовного развития социума. Опора на исторический опыт предшественников, сохранение и умножение ценностно-смысловых, национально-культурных паттернов является важным объединяющим и мобилизующим фактором, способствующим личностной и национальной идентификации, мировоззренческому росту самопознающего субъекта, стабилизации всего социокультурного организма.
Список литературы
1. Ламажаа Ч. К. Социальная трансформация // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 1. – С. 262–264.
2. Кравченко В. В. Симфония человеческой культуры. – М.: Аграф, 2017. – 384 с.
3. Парсонс Т. К общей теории действия. Теоретические основания социальных наук // О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 415–562.
4. Тельнова Н. А. Метафизические основания человеческого бытия // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2005. – № 2(11). – С. 3–12.
5. Антипьев А. Г. Социокультурный фактор и его значимость в кризисном российском обществе // Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы социологии: Материалы Международной научной конференции. – СПб., 2009. – С. 170–178.
6. Орлова Э. А. Социокультурная реальность: к определению понятия // Личность. Культура. Общество. Научно-практический журнал. – 2007. – Т. IХ. – Вып. 1. (34). – С. 63–75.
7. Козырьков В. П. Освоение обыденного мира: социокультурный анализ. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 1998. – 340 с.
8. Кравченко В. В. Культурно-антропологические основания социальных трансформаций // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. – 2019. – № 1. – С. 77–85. DOI: 10.18384/2310-7227-2019-1-77-85
9. Петров М. К. Язык, знак, культура. – М.: Наука, 1991. – 328 с.
10. Ищенко Н. С. Проблемы теоретического осмысления социокультурных трансформаций // Философско-культурологические исследования. – Луганск, 2018. – №4. – URL: https://fki.lgaki.info/2018/10/01/проблемы-теоретического-осмысления/ (дата обращения: 15.08.2021).
11. Марченко Ю. Г. Особенности бытия русской культуры в постсоветский период // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2008. – № 4. – С. 139–146.
12. Тарасов А. Н. Сущность концепта «социокультурная трансформация» // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 7 (13). – Ч. II. – С. 211–213.
13. Ерохина Е. А. Этническое многообразие в социокультурной динамике России: диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.11. – Новосибирск, 2015. – 451 с.
14. Тарасов А. Н. Теоретико-методологические аспекты аналитики социокультурной трансформации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 8 (14). – Ч. II. – С. 204–206.
15. Ионесов В. И. Модели трансформации культуры: типология переходного процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии: 24.00.01. – Самара, 2011. – 40 с.
16. Тьери Л. Социокультурная адаптация: сущность и функции // Альманах современной науки и образования. – 2011. – № 11 (54). – C. 109–112.
17. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. – М.: Астрель, 2006. – 1176 с.
18. Силина Е. В. Социальные трансформации в условиях глобализации (философский анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.11. – М., 2013. – 27 с.
19. Тарасов А. Н. Н. А. Бердяев о роли искусства в отражении процесса социокультурной трансформации // Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 6. – URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5171 (дата обращения: 15.08.2021).
References
1. Lamazhaa Ch. K. Social Transformation [Socialnaya transformatsiya]. Znanie. Ponimanie. Umenie (Knowledge. Understanding. Skill), 2011, no. 1, pp. 262–264.
2. Kravchenko V. V. Symphony of Human Culture [Simfoniya chelovecheskoy kultury]. Moscow: Agraf, 2017, 384 p.
3. Parsons T. Toward a General Theory of Action: Theoretical Foundations for the Social Sciences [K obschey teorii deistviya. Teoreticheskie osnovaniya sotsialnykh nauk]. O strukture sotsialnogo deystviya (The Structure of Social Action). Moscow: Akademicheskiy Proekt, 2002, pp. 415–562.
4. Telnova N. A. Metaphysical Foundations of Human Existence [Metafizicheskie osnovaniya chelovecheskogo bytiya]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University), 2005, no. 2(11), pp. 3–12.
5. Antipiev A. G. Sociocultural Factor and Its Significance in Crisis Russian Society [Sociokulturny factor I ego znachimost v krizisnom rossiiskom obschestve]. Pitirim Aleksandrovich Sorokin i sovremennye problemy sotsiologii: Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Pitirim Sorokin and Contemporary Problems of Sociology: Materials of International Scientific Conference), Saint Petersburg, 2009, pp. 170–178.
6. Orlova E. A. Sociocultural Reality: Toward a Definition of the Concept [Sociokulturnaya realnost: k opredeleniyu ponyatiya]. Lichnost. Kultura. Obschestvo (Personality. Culture. Society), 2007, vol. IХ, is. 1 (34), pp. 63–75.
7. Kozyrkov V. P. Mastering the Everyday World [Osvoenie obydennogo mira: sotsiokulturnyy analiz]. Nizhny Novgorod: NNGU im. N. I. Lobachevskogo, 1998, 340 p.
8. Kravchenko V. V. Cultural and Anthropological Foundations of Social Transformations [Kulturno-antropologicheskie osnovaniya socialnykh transformatsii]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki (Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy), 2019, no. 1, pp. 77–85.
9. Petrov M. K. Language, Sign, Culture [Yazyk, znak, kultura]. Moscow: Nauka, 1991, 328 p.
10. Ischenko N. S. Problems of Theoretical Comprehension of Socio-Cultural Transformations [Problemy teoreticheskogo osmysleniya sotsiokultyrnykh transformatsii]. Filosofsko-kulturologicheskie issledovaniya (Philosophical and Cultural Studies). Lugansk, 2018, no. 4. Available at: https://fki.lgaki.info/2018/10/01/проблемы-теоретического-осмысления/ (accessed 15 August 2021).
11. Marchenko Yu. G. Features of the Existence of Russian Culture in the Post-Soviet Period [Osobennosti bytiya russkoy kultury v postsovetskii period]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya (Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science), 2008, no. 4, pp. 139–146.
12. Tarasov A. N. The Essence of the Concept “Social-Cultural Transformation” [Suschnost kontsepta “sotsiokulturnaya transformatsiya”]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki (Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice), 2011, no. 7 (13), part II, pp. 211–213.
13. Erokhina E. A. Ethnic Diversity in the Sociocultural Dynamics of Russia: Doctoral Degree Thesis in Philosophy [Etnicheskoe mnogoobrazie v sotsiokulturnoi dinamike Rossii: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora filosofskikh nauk]. Novosibirsk, 2015, 451 p.
14. Tarasov A. N. Theoretical-Methodological Aspects of Social-Cultural Transformation Analytics [Teoretiko-metodologicheskie aspekty analitiki sotsiokulturnoy transformatsii]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki (Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice), 2011, no. 8 (14), part II, pp. 204–206.
15. Ionesov V. I. Cultural Transformation Models: Typology of the Transition Process: Abstract of the Doctoral Degree Thesis in Cultural Studies [Modeli transformatsii kultury: tipologiya perekhodnogo protsessa: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni doktora kulturologii]. Samara, 2011, 40 p.
16. Terry L. Sociocultural Adaptation: Essence and Functions [Sotsiokulturnaya adaptatsiya: suschnost i funktsii]. Almanakh sovremennoy nauki i obrazovaniya (Almanac of Modern Science and Education), 2011, no. 11(54), pp. 109–112.
17. Sorokin P. A. Social and Cultural Dynamics [Sotsialnaya I kulturnaya dinamika]. Moscow: Astrel, 2006, 1176 p.
18. Silina E. V. Social Transformations in Conditions of Globalization (Philosophical Analysis): Abstract of the Ph. D. Degree Thesis in Philosophy [Sotsialnye transformatsii v usloviyakh globalizatsii (filosofskii analiz): avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filosofskikh nauk]. Moscow, 2013, 27 p.
19. Tarasov A. N. N. A. Berdyaev about the Art Role in Process Reflection Sociocultural Transformations [N. A. Berdyaev o roli iskusstva v otrazhenii protsessa sotsiokulturnoy transformatsii]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern Problems of Science and Education), 2011, no. 6. Available at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5171 (accessed 15 August 2021).
Ссылка на статью:
Максимович В. А. Социокультурные трансформации в условиях информационного общества // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2021. – № 3. – С. 55–70. URL: http://fikio.ru/?p=4778.
© Максимович В. А., 2021