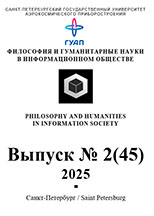Новый номер!
УДК 141.1
Колычев Пётр Михайлович – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, кафедра рекламы и современных коммуникаций, профессор, доктор философских наук, доцент, Санкт-Петербург, Россия.
Email: piter55piter@mail.ru
SPIN: 3085-3127
Авторское резюме
Состояние вопроса: Философия Аристотеля является актуальной для современной российской философии, в частности, в таком ее разделе как онтология. Аристотель был основателем категориальной онтологической системы, которая включает десять категорий, в число которых входит категория соотнесенного (отношение). В рамках материалистической диалектики эта категория рассматривалась редко, при этом либо она упоминалась в связи с общей категориальной системой Аристотеля (Г. Ф. Александров – 1939 г.; Д. В. Джохадзе – 1964), либо о ней писали специалисты по категории «отношение» в материалистической диалектики (А. И. Уёмов – 1963, В. К. Рыбалка, В. Г. Данилкин – 1973, А. Я. Райбекас – 1977, В. И. Свидерский, Р. А. Зобов – 1978). Но специальных печатных работ об этой категории Аристотеля не было. В 1987 году в ИНИОН была задепонирована работа: Колычев П. М. «Аристотель об отношении» (148 стр.), однако она сгорела при пожаре в ИНИОН. В современной российской философии работ на эту тему тоже нет, поэтому в связи с развитием информационных наук, где отношение играет ключевую роль, актуализировался интерес к истории этой категории.
Методы исследования: Категория соотнесенного рассмотрена не только в тех фрагментах сочинений Аристотеля, где встречается данный термин, но и в тех фрагментах, где содержательно речь идет о знании об этой категории. Причем приведены сноски на все анализируемые фрагменты. Важно, что речь идет только о текстах, переведенных на русский язык. Знание о рассматриваемой категории у Аристотеля нередко выражено не в современной философской стилистике, а обличено в повседневно-грамматическую форму, ставя философское содержание в сильную зависимость от грамматического перевода, что может быть причиной соответствующих ошибок. Однако вне зависимости от этого переведенные тексты имеют определенную значимость для российской философии.
Результаты: 1. Понимание соотнесенного как того, о чем говорят, что оно есть в связи с другим, и того, что оно находится в каком-то ином отношении к другому, являются синонимами. 2. Термин «связь», встречающийся в анализируемых фрагментах о соотнесенном, имеет не категориальный, а литературно-повседневный смысл. 3. Выражение «в отношении к» понимается как «высказывание», а не как категория «отношение», то есть определение соотнесенного сводится к следующему: соотнесенное есть то, что высказывается о другом. 4. Соотнесенное не является иллюстрацией структуры a R b. Если в современном понимании отношением является R, то у Аристотеля соотнесенным являются a и b. 5. Хотя соотнесенное не тождественно отношению в его современном понимании, соотнесенное все же отражает некоторые моменты и черты отношения.
Область применения результатов: Полученные результаты могут быть использованы в курсе истории философии, ибо Аристотель оказал и продолжает оказывать значительное влияние на развитие философской мысли.
Выводы: Содержание понятия «соотнесенное» не совпадает с современным содержанием понятия «отношение». Суть этого несовпадения в том, что первое оказалось протопонятием для понятия «отношение».
Ключевые слова: Аристотель, онтологические категории, соотнесенное, отношение.
Definition of the Correlated in Aristotle’s Texts
Kolychev Petr Mikhailovich – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Department of Advertising and Modern Communications, Professor, Doctor of Philosophy, Saint Petersburg, Russia.
Email: piter55piter@mail.ru
Abstract
Background: Aristotle’s philosophy is relevant to contemporary Russian philosophy, particularly in the field of ontology. Aristotle is the founder of the categorical ontological system, which contains ten categories, including the category of the correlated (relation). Within the framework of materialistic dialectics, this category was rarely considered; it was either mentioned in connection with Aristotle’s general categorical system (G. F. Alexandrov – 1939; D. V. Dzhokhadze – 1964), or it was written about by specialists in the category of “relationship” in materialistic dialectics (A. I. Uyomov – 1963, V. K. Rybalka, V. G. Danilkin – 1973, A. Ya. Raibekas – 1977, V. I. Svidersky, R. A. Zobov – 1978). However, there were no special printed works on this category of Aristotle. In 1987, the work “Aristotle on Attitude” by P. M. Kolychev (148 pages) was deposited at the Institute of Scientific Information for Social Sciences (INION), but it burned down in a fire at the Institute. Contemporary Russian philosophy also lacks works on this topic. Therefore, with the development of information science, where attitude plays a key role, interest in the history of this category has revived.
Research methods: The category of the correlated is examined not only in those passages in Aristotle’s works where the term appears, but also in those passages that substantively discuss knowledge of this category. References are provided for all analyzed passages. Importantly, this discussion focuses only on texts translated into Russian. Aristotle’s knowledge of this category is often expressed not in modern philosophical style, but in everyday grammatical form. This makes the philosophical content largely dependent on grammatical translation, which can lead to corresponding errors. However, regardless of this, the translated texts are of considerable significance for Russian philosophy.
Results: 1. Understanding the correlated as that which is said to be in connection with another, and that which is in some other relationship to another, are synonyms. 2. The term “connection”, found in the analyzed fragments about the correlated, does not have a categorical, but a literary-everyday meaning. 3. The expression “in relation to” is understood as a “utterance”, and not as the category “relationship”, that is, the definition of the correlated comes down to the following: the correlated is that which is stated about another. 4. The correlated is not an illustration of the structure a R b. If in the modern understanding the relationship is R, then in Aristotle the correlated are a and b. 5. Although the correlated is not identical to the relationship in its modern understanding, the correlated still reflects some moments and features of the relationship.
Implications: The obtained results can be used in courses on the history of philosophy, as Aristotle has had and continues to have a significant influence on the development of philosophical thought.
Conclusion: The concept of “correlated” does not coincide with the modern concept of “relation”. The essence of this discrepancy is that the former turned out to be the protoconcept for the concept of “relation”.
Keywords: Aristotle; ontological categories; correlated; relation.
В данной статье изложен результат анализа фрагментов из сочинений Аристотеля с целью выявления тех положений, которые раскрывают его взгляды на отношение. При этом необходимо иметь в виду три методологических положения, которые оказываются принципиальными для понимания результатов проведенного исследования. Во-первых, речь идет о текстах Аристотеля, которые были переведены на русский язык в цитируемых ниже изданиях. Нетрудно предположить, что эти переводы иногда могут отличатся по смыслу от древнегреческого текста. Это обычная практика перевода. Указав на эту проблему, далее мы не будем ее обсуждать. Переведенный текст, вне зависимости от его адекватности, может оказать более значительное влияние, чем сам оригинал. Действительно, если древнегреческий язык входил в образовательную программу Российской Империи, то в советской образовательной программе он был исключен, что имеет место и в современной российской образовательной программе, поэтому и советские, и российские философы в подавляющем своем большинстве черпают знание об Аристотеле только из переводов этих текстов на русский язык.
Во-вторых, задача анализа категории «отношение» в переведенных текстах Аристотеля сразу же сталкивается с проблемой: такой категории, в современном понимании слова «категория», у Аристотеля нет. Однако это не означает, что в его сочинениях не было знания об предмете, который сейчас философами описывается категорией отношения. Ведь предмет может быть описан без использования специального термина, его обозначающего, для этого могут быть использованы близкие термины. В переведенных текстах Аристотеля нередко используется словосочетание, которое в русском языке было переведено как соотнесенное. Данное обстоятельство делает размытым само поле исследования, ведь одни исследователи могут посчитать, что некоторый фрагмент переведенного текста Аристотеля описывает то, что сегодня относится к отношению, а другие так могут и не считать. Чтобы отчасти решить эту проблему, считаем необходимым привести перечень тех фрагментов, которые были проанализированы в данном исследовании. Из сочинения «Категории» анализировались такие фрагменты: 1 b 25 – 2 а 5, 5 b 10 – 6 а 15, 6 а 35 – 8 b 25, 10 b 15 – 10 b 25, 11 а 20 – 11 b, 11 b 5 – 11 b 10, 11 b 17 – 12 a 1, 12 b 15 – 12 а, 12 b 15 – 12 b 25, 13 а 35 – 13 b 10 [1]. Из сочинения «Топика» делался анализ следующих фрагментов: 103 b 20 – 103 b 25, 105 b 30 –105 b 35, 109 b 10 – 109 b 20, 110 b 25 – 111 a 10, 114 а 10 – 114 а 25, 120 b 35 – 121 а 10, 124 b 15 – 125 b 10, 135 b 15 – 135 b 30, 142 а 20 – 142 а 35, 145 а 10 – 145 а 30, 146 а 35 – 146 b 15, 147 а 20 – 147 а 35, 149 b – 149 b 25, 152 а 35 – 152 b 5, 163 b 30 – 164 а 5 [2]. Из сочинения «Никомахова этика» анализировались следующий фрагмент: 1096 а 15-1096 а 30 [3]. Из сочинения «Метафизика» – следующие фрагменты: 1001 b 25 – 1001 b 35, 1010 b 30 – 1011 b 15, 1017 а 20 – 1017 а 30, 1018 а 20 – 1018 а 25, 1020 b 25 – 1021 b 15, 1053 а 20 – 1053 а 30, 1054 а 20 – 1054 а 30, 1056 b 30 – 1057 а 20, 1057 а 30 – 1057 b 5, 1068 а 5 – 1068 а 20, 1068 b 15 – 1068 b 20, 1088 а 15 – 1088 b 5, 1088 b 25 – 1088 b 35, 1089 b 5 – 1089 b 25, 1093 а – 1093 а 10 [4]. Из сочинения «Физика» рассматривались следующие фрагменты: 190 а 30 – 190 b 5, 194 b 5 – 194 b 10, 215 а 30 – 216 а 20, 228 а 5 – 228 а 15, 252 а 10 – 252 а 20 [5]. Из сочинения «О софистических опровержениях» были взяты фрагменты: 173 а 30 – 173 b 20, 178 а – 178 а 15, 178 b 35 – 179 а 10, 181 b 25 – 182 а [6]. Из сочинения «Вторая аналитика» анализировались фрагменты: 83 а 20 – 83 а 25, 83 b 10 – 83 b 20, 85 b 15 – 85 b 25, 86 а – 86 а 10 [7].
В-третьих, в предыдущем методологическом положении говорилось о современном понимании категории отношения. Но именно в этом кроется проблема, так в отношении большинства философских категорий вряд ли можно говорить о каком-то ее окончательном понимании. По этому поводу следует сказать, что приведенные ниже результаты исследования относятся к советской философии 1987 года.
Отбор анализируемых отрывков осуществлялся на основе наличия в них знания об отношении и соотнесенном, так как предполагалось, что последнее раскрывает смысл первого. Статистика употребления терминов «отношение» и «соотнесённое» в рассматриваемых фрагментах такова: 153 раза упоминается термин «соотнесенное», 116 раз – термин «отношение». Поскольку соотнесенное встречается гораздо чаще, нежели отношение, то целесообразно начать анализ именно с этого термина. Изложение Аристотелем знания о соотнесенном носит двоякий характер: систематический и отрывочный. Систематический характер представлен пятнадцатой главой Книги пятой «Метафизики» и седьмой главой в «Категориях». Обе главы полностью посвящены рассмотрению соотнесенного. Отрывочный характер изложения знания о соотнесенном проявляется в том, что Аристотель, рассматривая какую-либо проблему, приводит рассуждения о соотнесенном. Естественно, что при этом знание о соотнесенном является подчиненным, а знание рассматриваемой проблемы – главным. Побочным эффектом такого характера изложения является противоречивость некоторых высказываемых Аристотелем положений. Противоречивость объясняется еще и методом аргументирования, нередко сводящемся только к приведению примеров, поэтому нечто, справедливое для одних примеров, может оказаться неверным для других.
В переведенных текстах сочинений Аристотеля неоднократно даются определения соотнесенного. Все их можно разделить на две группы.
Первая группа объединяет определения, суть которых состоит в следующем: «Соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином отношении к другому» [1, с. 66–67 6 а 25 – 27; с. 79–80 11 b 17 – 12 a 1].
Из самого беглого анализа этого определения видно, что оно содержит два момента: Первый – «Соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим». Второй – «Соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть … находясь в каком-то ином отношении к другому». Что это, два самостоятельных аспекта определения соотнесенного или это синонимы? Ни в одном из анализируемых фрагментов переведенных текстов сочинений Аристотель не дается различие этих моментов, более того, нигде не говорится о принципиальной возможности такого различия. Кроме того, одни и те же примеры выражаются то через первый момент, то – посредством второго момента. Например, под «большим» подразумевается «большее» по отношению к «меньшему» [1, с. 67 6 b 32]; о «большем» говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим [1, с. 66 6 а 36]. Все это дает твердое основание считать оба указанных выше момента синонимами.
В первом моменте фигурирует термин «связь». Каков смысл этого термина? Следует ли в данном случае «связь» рассматривать как категорию. Это имеет место у А. Я. Райбекаса [8, с. 27], у В. И. Свидерского и Р. А. Зобова [9, с. 150.]. При анализе какого-либо понятия в текстах, где только зарождается исследуемая категория, большое внимание должно быть уделено смысловой, содержательной стороне рассматриваемой категории, а не её терминологической стороне.
Выражение «то, что говорится в связи», а именно в таком контексте термин «связь» используется в определении соотнесенного, употребляется Аристотелем в том же значении, что и «высказывающая речь», «высказывание» [10, с. 600.]. Следовательно, термин «связь» в данном случае носит не категориальный, а литературно-повседневный смысл.
Что касается второго момента в определении соотнесенного, то, в силу его синонимичности первому, ставится под сомнение употребление термина «отношение» в контексте определения соотнесенного как онтологической категории. В данной ситуации было бы правильнее говорить не о смысле термина «отношение», а о смысле выражения «в отношении к». Существенную роль в понимании последнего выражения играют различные примеры определения одних и тех же конкретных соотнесенных. Богатый материал для этого дает соотнесенное – «двойное»: двойное по отношению к половинному [2, с. 450], [1, с. 67, 80], [2, с. 419]; двойное относится к половинному [4, с. 166]; двойное соотносится с половиной [2, с. 450], [2, с. 420]; двойное есть в связи с другим [1, с. 66]; двойное противолежит половине [1, с. 80]; двойное есть многократное против половинного [2, с. 420]; двойное против чего-то [1, с. 66], [2, с. 420, 421]; двойное чего-то [6, с. 560]; двойное половины [6, с. 560, 587]; двойное по отношению к единице [4, с. 167]; двойное по отношению к чему-то точно определенному [1, с. 72]; вдвое больше чего-то [4, с. 168]; двойное [4, с. 168], [1, с. 55, 67, 84], [2, с. 409, 419, 421, 470]. Сравнивая все эти примеры, можно сказать, что выражение «в отношении к» понимается как «высказывание», а не как категория «отношение», то есть рассматриваемое здесь определение соотнесенного сводится к следующему: соотнесенное есть то, что высказывается о другом.
Подтверждением данного вывода оказывается и тот факт, что ни один из примеров определения соотнесенного не является иллюстрацией структуры:
a R b (1).
У Аристотеля примеры соотнесенных не обладают такой структурой. О том, что соотнесенное у Аристотеля выражается этой структурой, в частности, пишет Г. Ф. Александров [11, с. 66]. Анализ примеров соотнесенных показывает: во-первых, не каждый пример содержит в себе сразу оба соотнесенных, порою указывается только на принципиальную возможность существования второго соотнесенного; во-вторых, даже в тех примерах, где в наличии имеются оба соотнесенных, нет того, что является главным в структуре (1) – нет R; в-третьих, ни об одном из примеров, в котором фигурирует пара соотнесенных, не говорится как о чем-то образующем нечто единое, то есть отношение, а всегда говорится как о первом соотнесенном, при этом второе соотнесенное играет второстепенную роль; в-четвертых, в структуре (1) совсем не обязательно и даже очень редко соотнесенное А сказывается о В, чаще всего А и В самостоятельные сущие (под сущим здесь понимается любое нечто, это значение термина «сущее» может и не совпадать с тем значением, которое встречается в текстах Аристотеля), в то время как для Аристотеля «высказывание» является определяющим в данной группе определений соотнесенного.
Все эти аргументы, кроме сделанного вывода, опровергают мнение, согласно которому структура (1) преобразована у Аристотеля в структуру:
А есть то, что больше В.
Приводя примеры соотнесенного, Аристотель действительно употребляет термины «больше», «меньше», «равно», однако они у него выполняют роль соотнесенного, а не R из структуры (1). Например, «ровно то, количество чего одно» [4, с. 167 1021 а 13–14]. Здесь «ровно» и «одно» – соотнесенные. Конечно, структура типа (1) встречается в сочинениях Аристотеля, например, «снег и лебедь тождественны лишь в том смысле, что они белое» [6, с. 546 168 b 34–35]. В этом примере есть a и b – снег и лебедь, есть R –тождественны, указана даже основа отношения – белый цвет. Но дело в том, что ни до этого примера, ни после нет никакого упоминания или намека на то, что этот пример как-то связан с отношением или соотнесенным, так как фрагмент [6, с. 545–546 168 b 10–15], расположенный до этого примера, не относится контекстуально к рассматриваемому примеру. Скорее всего, этот пример не может иметь такой связи, так как, например, лебедь является сущностью первого рода, которую Аристотель не причисляет к соотнесенному.
Термин «отношение» используется в переводных текстах философа неоднократно. Выше этот термин был рассмотрен в связи с определением соотнесенного. Кроме этого, «отношение» употребляется в смысле самого соотнесенного и в качестве математического понятия. В анализируемых фрагментах термин «отношение» используется в значении «отношение в связи с определением соотнесённого» 65 раз, 23 раза используется в значении «отношение как соотнесённое», 18 раз используется в значении «отношение как математическое понятие».
Необходимость понимания «отношения» в некоторых случаях как соотнесенного обусловлено, во-первых, тем обстоятельством, что иногда Аристотель соотнесенное обозначает выражением «по отношению к чему-то». Так, перечисляя основные онтологические категории, он пишет: «Из сказанного без какой-либо связи каждое означает или сущность, или «сколько», или «какое», или «по отношению к чему-то», или «где», или «когда», или «находиться в каком-то положении», или «обладать», или «действовать», или «претерпевать»» [1, с. 551 b 25–28]. Аристотель применяет здесь оригинальный образно-литературный способ обозначения онтологических категорий. Понятно, что как о количестве мы говорим «количество», а не «сколько», так и о соотнесенном следует говорить как «соотнесенное», а не «по отношению к чему-то». Во-вторых, если в приведенной цитате оставить только то, что касается соотнесенного, то мы получим его определение. Действительно: «Из сказанного без какой-либо связи означает … “по отношению к чему-то” …». В-третьих, примеры, следующие за приведенной цитатой, также свидетельствуют, что в данном случае речь идет не об «отношении», а о соотнесенном: «“по отношению к чему-то” – например, двойное, половинное, большее» [1, с. 55 2 а 1], все эти примеры суть соотнесенные. В-четвертых, после перечисления десяти онтологических категорий в сочинении «Категории» у Аристотеля идут главы, подробно разъясняющие первые четыре категории, и тут категории обозначены не образно-литературным способом, а именно: сущность, соотнесенное, количество, качество. В-пятых, в другом месте, где перечисляются категории, вместо «по отношению к чему-то» стоит «соотнесенное» [6, с. 577 178 b 37–179 а 10]. Однако чаще при перечислении категорий вместо «по отношению к чему-то» употребляется не «соотнесенное», а «отношение» [7, с. 295 83 b 15–16]. Такое употребление термина «отношение» следует расценивать как сокращение выражения «по отношению к чему-то», вследствие чего и получилось, что термин «отношение» стал обозначать соотнесенное. Подтверждением этого положения могут быть те места сочинений Аристотеля, где существует диссонанс между термином «отношение» и контекстом его употребления, который свидетельствует, что речь идет не об «отношении», а о соотнесенном [4, с. 115 1001 b 29–33]. Также диссонанс существует между «отношением» и примерами, поясняющими смысл его употребления, которые, как правило, являются соотнесенными [2, с. 419–420 124 b 21–35].
Некоторые исследователи философии Аристотеля при использовании философом термина «отношение» как математического понятия рассматривают «отношение» как онтологическую категорию [12, с. 11–17, 12]. Однако в его сочинениях математический характер термина «отношение» нигде не связан с категорией соотнесенного, значит «отношение» в данном случае лишено онтологического содержания.
Принимая во внимание примеры соотнесенного, выражение «соотносится» эквивалентно выражению «находится в отношении к чему-то». Следовательно, в рассматриваемую группу определений входит и такое: соотнесенным называется то, что соотносят с другим [4, с. 166–168].
Определения второй группы сводятся к следующему: соотнесенное есть то, для чего быть – значит находиться в каком-то отношении к чему-то [1, с. 71 8 а 31–32]. В одном месте [1, с. 71 8 а 33–35] сочинений Аристотеля специально настаивается на его отличии от последнего. Это отличие состоит в разном характере предпосылок – почему соотнесенное находится в отношении к другому. Если в основном определении соотнесенного такой предпосылкой является «то, о чем говорят», то в данном такой предпосылкой будет само бытие соотнесенного, то есть нечто объективное в противоположность грамматическому характеру первой предпосылки.
Поскольку за бытие соотнесенного отвечает его сущность, то ко второй группе определений соотнесенного следует отнести и такое определение: соотнесенное есть то, сущность чего включает в себя отношение [4, с. 168 1021 а 27–30].
Подводя итог рассмотрению определений соотнесенного, следует отметить их теоретический характер. Поэтому вряд ли стоит соглашаться с А. П. Шептулиным, который считает, что «его (Аристотеля – П. К.) определения категорий не раскрывают их сути, а представляют собой наглядный показ одного или нескольких фактов, охватываемых соответствующей категорией» [13, с. 15]. Автор ссылается на четвертую главу «Категорий», где дано только перечисление категорий и их краткая характеристика, при этом А. П. Шептулин совершенно не принимает во внимание последующие (5, 6, 7, 8) главы, где подробнейшим образом даны теоретические определения и описаны их свойства, то есть излагается суть первых четырех категорий: сущности, количества, соотнесенного, качества. Следующий вывод, который следует из анализа определений соотнесенного, состоит в том, что соотнесенное, хотя и не тождественно отношению в его современном понимании, все же отражает некоторые моменты и черты отношения. Чтобы полнее раскрыть эту связь, необходимо проанализировать также и положения, сформулированные Аристотелем для соотнесенного, что и будет сделано в следующей статье.
Список литературы
1. Аристотель. Категории // Сочинения в четырёх томах. Т. 2 / Ред. З. Н. Микеладзе. – М.: «Мысль», 1978. – С. 51–91.
2. Аристотель. Топика // Сочинения в четырёх томах. Т. 2 / Ред. З. Н. Микеладзе. – М.: «Мысль», 1978. – С. 347–531.
3. Аристотель. Никомахова этика // Сочинения в четырёх томах. Т. 4. – М.: «Мысль», 1983. – С. 53–293.
4. Аристотель. Метафизика // Сочинения в четырёх томах. Т. 1. – М.: «Мысль», 1976. – С. 63–367.
5. Аристотель. Физика // Сочинения в четырёх томах. Т. 3. – М.: «Мысль», 1981. – С. 59–261.
6. Аристотель. О софистических опровержениях // Сочинения в четырёх томах. Т. 2 / Ред. З. Н. Микеладзе. – М.: «Мысль», 1978. – С. 533–593.
7. Аристотель. Вторая аналитика // Сочинения в четырёх томах. Т. 2 / Ред. З. Н. Микеладзе. – М.: «Мысль», 1978. – С. 255–346.
8. Райбекас А. Я. Вещь, свойство, отношение как философские категории. – Томск: Томский университет, 1977. – 243 с.
9. Свидерский В. И., Зобов Р. А. О понятии «отношение» // Вестник Ленинградского университета. Экономика, философия, право. – 1978. – № 11, вып. 2. – С. 150–152.
10. Микеладзе З. Н. Примечания // Аристотель / Сочинения в четырёх томах. Т. 2. – М.: «Мысль», 1978. – С. 594–598.
11. Александров Г. Ф. Аристотель: (Философские и социально-политические взгляды). – Москва: Соцэкгиз, 1940. – 276 с.
12. Рыбалко В. К., Данилкин В. Г. К вопросу о категориях «вещь» и «отношение» в философии Аристотеля // Философские науки. – 1973. – Вып. III. – С. 11–17.
13. Шептулин А. П. Система категорий диалектики. – Москва: Наука, 1967. – 375 с.
References
1. Aristotle. Categories [Kategorii]. Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 2 (Works: in 4 vol. Vol. 2). Moscow: Mysl, 1978, pр. 51–91.
2. Aristotle. Topics [Topika]. Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 2 (Works: in 4 vol. Vol. 2). Moscow: Mysl, 1978, pр. 347–531.
3. Aristotle. Nicomachean Ethics [Nikomakhova etika]. Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 4 (Works: in 4 vol. Vol. 4). Moscow: Mysl, 1983, pp. 53–293.
4. Aristotle. Metaphysics [Metafizika]. Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 1 (Works: in 4 vol. Vol. 1). Moscow: Mysl, 1976, pp. 63–367.
5. Aristotle. Physics [Fizika]. Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 3 (Works in 4 vol. Vol. 3). Moscow: Mysl, 1981, pp. 59–261.
6. Aristotle. Sophistical Refutations [O sofisticheskikh oproverzheniyakh]. Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 2 (Works: in 4 vol. Vol. 2). Moscow: Mysl, 1978, pp. 533–593.
7. Aristotle. Posterior Analytics [Vtoraya analitika]. Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 2 (Works: in 4 vol. Vol. 2). Moscow: Mysl, 1978, pp. 255–346.
8. Raybekas A. Ya. Thing, Property, Relation as Philosophical Categories [Vesch, svoystvo, otnoshenie kak filosofskie kategorii]. Tomsk: Tomskiy universitet, 1977, 243 p.
9. Sviderskiy V. I., Zobov R. A. About the Concept of “Relation” [O ponyatii “otnoshenie”]. Vestnik Leningradskogo universiteta. Ekonomika, filosofiya, parvo (Bulletin of Leningrad University. Economics, Philosophy, Law), 1978, no. 11, is. 2, pp. 150–152.
10. Mikeladze Z. N. Notes [Primechaniya]. In: Aristotel. Sochineniya v chetyrekh tomakh. Tom 2 (Aristotle. Works: in 4 vol. Vol. 2). Moscow: Mysl, 1978, pр. 594–598.
11. Aleksandrov G. F. Aristotle: (Philosophical and Socio-political Views) [Aristotel: (filosofskie i sotsialno-politicheskie vzglyady)]. Moscow: Sotsekgiz, 1940, 276 р.
12. Rybalko V. K., Danilkin V. G. On the Question of the Categories of “Thing” and “Relation” in the Philosophy of Aristotle [K voprosu o kategoriyakh “vesch” i “otnoshenie” v filosofii Aristotelya]. Filosofskie nauki (Philosophical Sciences), 1973, is. III, pр. 11–17.
13. Sheptulin A. P. The System of Categories of Dialectics [Sistema kategoriy dialektiki]. Moscow: Nauka, 1967, 375 p.
© Колычев П. М., 2025