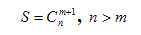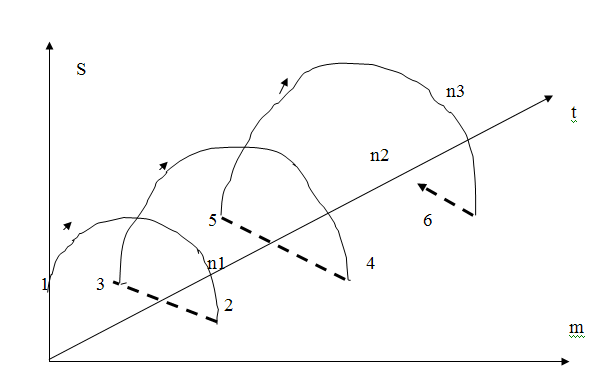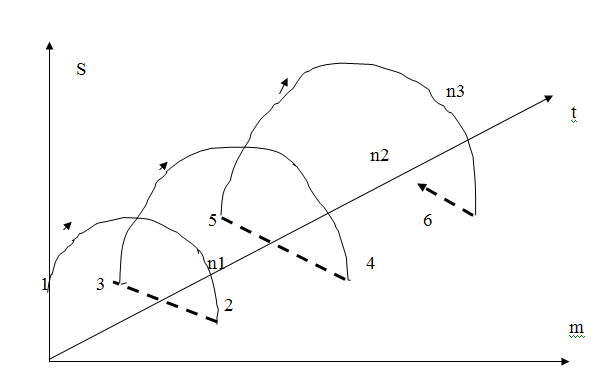УДК 101.9
Комаров Виктор Дмитриевич – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва», Военный институт (инженерно-технический), кафедра гуманитарных дисциплин, профессор, доктор философских наук, профессор.
E-mail: vdkomarov@mail.ru
191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул. д. 22,
тел.: 8(812)578-81-17.
Авторское резюме
Состояние вопроса: Экзистенциализм является, как известно, одним из главных направлений философии XX века. Вопреки распространенному мнению можно показать, что осмысление реальности с точки зрения экзистенциальной парадигмы было распространено и среди советских философов, в том числе – на философском факультете Ленинградского государственного университета.
Результаты: Главной причиной экзистенциалистской направленности научного творчества старшего поколения ученых философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета стал их личный опыт участия в сражениях Великой Отечественной войны. Пребывание в военных условиях на грани между жизнью и смертью позволило им сформировать и выразить в своих трудах особую философскую концепцию жизни и человека, которую можно охарактеризовать как «марксистский экзистенциализм» или воинствующий экзистенциализм в современной марксистской философии. Экзистенциальная проблематика, практически забытая в период относительно спокойного мирного сосуществования различных политических систем, вновь привлекла к себе внимание после распада СССР и наступления длительного периода социальной нестабильности, продолжающегося в различных формах до сих пор. К числу философов-ветеранов Великой Отечественной войны, в работах которых присутствовала концепция марксистского экзистенциализма, можно отнести докторов философских наук, профессоров Амелина Петра Пименовича, Галактионова Анатолия Андриановича, Иванова Владимира Георгиевича, Кагана Моисея Самойловича, Казакова Анатолия Павловича, Комарову Веру Яковлевну, Корнеева Михаила Яковлевича, Подкорытова Геннадия Алексеевича, Смольянинова Ивана Федоровича, Федотова Василия Павловича, Шахновича Михаила Иосифовича, а также кандидатов философских наук, доцентов Купченко Ирину Петровну и Почепко Валерия Антоновича.
Область применения результатов: Обнаружение концепции марксистского экзистенциализма в трудах ученых философского факультета СПбГУ дает возможность более точно представить картину развития отечественной философии советского периода.
Выводы: В рамках философии марксизма на философском факультете Санкт-Петербургского (в прошлом Ленинградского) госуниверситета в советский период сложилось направление, которое можно охарактеризовать как «марксистский экзистенциализм». Важнейшей опорой для него послужил личный опыт ленинградских ученых – участников Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: буржуазная философия; экзистенциализм; марксизм; воинствующий материализм; религиозная философия; материализм; страх и трепет; героическая мысль; оптимистическое свободомыслие; патриотизм.
Marxist Existentialism Presented in Works of Some Saint Petersburg Philosophers of the XX Century
Viktor Dmitrievich Komarov – Military Academy of the Material and Technical Maintenance Named after General of the Army A. V. Khrulev, Military Institute (engineering), Department of Humanities, professor, Doctor of Philosophy, Saint Petersburg, Russia.
E-mail: vdkomarov@mail.ru
22, Zakharievskaia st., St. Petersburg, Russia, 191123,
tel: +7(812)578-81-17.
Abstract
Background: Existentialism is known to be one of the main trends of XX century philosophy. By contrast to a prevailing opinion, one can say that the understanding of reality from the viewpoint of existential paradigm was spread among Soviet philosophers, with philosophers of St. Petersburg University being included.
Results: The main reason of existential trend in the works of senior generation philosophers of Saint Petersburg University was their participation in World War II. While being on the verge of life and death, they could formulate and express a peculiar conception of life and man in their works. This conception can be termed ‘Marxist existentialism’ or ‘militant existentialism in modern Marxist philosophy’, the latter being connected with V. I. Lenin’s term ‘militant materialism’. Existential discourse, in fact, forgotten during the period of peaceful co-existence between different political systems, again was paid attention to after the disintegration of the USSR and the beginning of the prolonged period of social instability which continues in this or that form. The philosophers-veterans of World War II, in whose works the conception of Marxist existentialism can be found, are professors P. Amelin, A. Galactionov, V. Ivanov, M. Kagan, A. Kazakov, V. Komarova, M. Korneev, G. Podkorijtov, I. Smolianinov, M. Shakhnovich, associate professors I. Kupchenko and V. Pochepko.
Research limitations: The conception of Marxist existentialism presented in some works of Russian philosophers gives us the opportunity to understand profoundly the development of Russian philosophy of the Soviet period.
Conclusion: In the framework of Marxist philosophy at the faculty of philosophy of St. Petersburg University during the Soviet period there appeared a trend which can be named ‘Marxist existentialism’. The private experience of philosophers-veterans of World War II is considered to be its main basis.
Keywords: bourgeois philosophy; existentialism; Marxism; militant materialism; religious philosophy; materialism; fear and trembling; heroic thought; optimistic freethinking; patriotism.
В год 75-летия философского факультета Санкт-Петербургского (в прошлом Ленинградского) государственного университета главным памятным событием, на мой взгляд, стал 20-миллионный марш «Бессмертного полка» по городам и весям России. Это означало, что 70-летие Великой Победы отметил сам Великий народ, творцы и наследники всемирно-исторической победы над фашизмом и милитаризмом. Я тоже как давний выпускник (1957) именитого советского факультета шагал по Невскому проспекту с портретом своего брата Валентина – ветерана Второй мировой, и вспоминал, прежде всего, тех учёных философского факультета ЛГУ, которые в конце 40-х годов пришли учиться человеческой мудрости на Менделеевскую линию, дом 5 с фронтов величайшей в истории войны.
Одни из них имели тяжелые ранения и увечья с поля боя, других сия печаль миновала, но у каждого из них в груди, под металлом боевых орденов и медалей билось живое сердце советского патриота. Каждый из них желал взглянуть на минувшую жесточайшую «битву миров» умудрёнными глазами и по-русски понять смысл тех сражений, что резко повернули влево ход мировой цивилизации.
В этом знаменательном году мы с гордостью и благодарным трепетом вспоминаем об интеллектуальных подвигах наших ветеранов войны – докторов философских наук, профессоров Амелина Петра Пименовича, Галактионова Анатолия Андриановича, Иванова Владимира Георгиевича, Кагана Моисея Самойловича, Казакова Анатолия Павловича, Комаровой Веры Яковлевны, Корнеева Михаила Яковлевича, Подкорытова Геннадия Алексеевича, Смольянинова Ивана Федоровича, Федотова Василия Павловича, Шахновича Михаила Иосифовича, а также кандидатов философских наук, доцентов Купченко Ирины Петровны и Почепко Валерия Антоновича.
Безусловно, все они испытали смертельный трепет первого боевого крещения и тяготы фронтовой службы Отечеству, но они же, советские патриоты, сумели преодолеть страх смерти и одержать психологическую победу над своей плотью, добыть интеллектуальную победу над физическим врагом. Мне представляется, что жизненный подвиг наших славных коллег можно по-новому понять с философской позиции воинствующего экзистенциализма.
Традиционно можно утверждать, что наши соратники по философскому факультету Ленгосуниверситета постигали и решали актуальные философские проблемы с позиций завещанного В. И. Лениным воинствующего материализма. Однако их преимущество перед нами было в том, что они прошли сквозь кровавые, чрезвычайные «пограничные ситуации». Они побывали на военной грани между жизнью и смертью. Они интеллектуально постигли голую правду человеческого существования в ХХ веке. Они – листья ветки, которую можно назвать «марксистский экзистенциализм».
В отечественной философской культуре 80-х – 90-х годов ХХ в. почти исчезла тема экзистенциализма как философии человеческого существования. Видимо, сказалась благость свободомыслия в условиях предыдущего 40-летнего периода мирного сосуществования двух разнотипных общественных систем. Однако, когда трагически погиб Советский Союз, возник однополярный мир, и в общественном сознании постсоветской России сформировалась патриотически-мемориальная парадигма относительно Отечественной войны 1812–1814 годов, затем 300-летия Дома Романовых, 100-летия Первой мировой войны и, наконец, по поводу 70-летия Великой Победы, – тогда наши интеллектуалы стали рассуждать о проблемах человеческого бытия в стиле классического экзистенциализма как эклектичной философии существования, иногда даже склоняясь перед западной «волей к смерти».
Здесь важно напомнить, что первый вариант западнического осмысления проблем человеческого существования в условиях глобальной войны предложил датский философ Сёрен Кьеркегор, который в 1843 году опубликовал свою книгу «Страх и трепет». В ней он по существу впервые попытался осмыслить трагические впечатления западного обывателя от ужасов наполеоновских войн.
Классический экзистенциализм как философия существования своеобразно выразил дух ожесточения классовой борьбы в предчувствии Первой мировой войны, дух смертельной «схватки миров» в её ходе и сложился как направление трагической мысли культур, столкнувшихся в период Второй мировой войны. Зарождение и эволюцию этого философского направления хорошо показала доцент философского факультета МГУ Пиама Павловна Гайденко в своей книге 1963 года [см.: 3].
Для нас важно отметить, что первые всплески этой «философии трагического человечества» на рубеже веков выразила русская религиозная философия в лице Н. А. Бердяева и Л. И. Шестова (Шварцмана). Превозмогая (каждый по-своему) дух обыденного рассудка философствования различных народов, Лев Шестов избрал парадигму откровения, а Николай Бердяев – позицию «умозрения над схваткой». Впоследствии после начавшейся в 1917–1920 годах «вселенской революции духа» это парадигмальное раздвоение русской философии экзистенциализма породило противоречивые философские течения в немецкой и французской культурах. Условно их можно трактовать как атеистическое (оптимистическое) и религиозное (пессимистическое) течения западноевропейской философской мысли. Примерно такая картина эволюции экзистенциализма вырисовывается в трудах Э. Ю. Соловьёва доперестроечного периода.
В связи с нашей темой меня больше привлекает методологическая позиция Николая Александровича Бердяева как классического русского философа и почётного доктора Кембриджского университета. Если сопоставить работы Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» (Париж, 1931) и «Русская идея» (Париж, 1955), то яснее становится «народный реализм» его религиозно-философского мировоззрения. Раннее увлечение марксизмом не прошло для него бесследно, так что можно утверждать, что, пребывая в ссылке на христианском Западе и почитаемый там как основатель философии персонализма, Николай Бердяев до конца жизни оставался потомственным русским патриотом в статусе «православного атеиста».
Советские ленинградские философы особенно уважали жизненный оптимизм Н. А. Бердяева, его антифашистскую идеологическую позицию во время Великой Отечественной войны и его реалистическое отношение к советскому социализму [см.: 4]. «Советский патриотизм» Бердяева, выразившийся в его трудах периода Второй мировой войны, привлёк внимание ведущих профессоров нашего факультета к его позиции реалистического персонализма и своеобразного, так я его называю, «воинствующего экзистенциализма».
Н. А. Бердяев понимал, что Россия, победившая ударную силу мирового антигуманизма и западной буржуазности, стала местом последнего и успешного испытания реального гуманизма. Он выражал надежду, что именно в этой победившей России «будет создан иной, более справедливый, чем просто буржуазный, строй, и она сможет выполнить предназначенную ей миссию – стать объединительницей восточного (религиозного) и западного (гуманистического) начал истории» [там же, с. 51].
В определённом смысле можно считать, что поколение фронтовиков, окончивших курс философского факультета Ленгосуниверситета, к началу 50-х годов ХХ в. унаследовало в своих трудах лучшие традиции русского основоположника экзистенциализма и персонализма. Постараюсь показать это на конкретных персоналиях.
Выходец из крестьянской семьи (Ленинградская область) Михаил Яковлевич Корнеев (1926–2002) закончил войну в звании гвардии старшего сержанта ВВС. Его знакомство с «пограничными ситуациями» началось в декабре 1941 г. на дорогах, ведущих к Ораниенбаумскому плацдарму, и продолжилось после призыва в Советскую Армию в июне 1944 года. После этого 18-летний боец встречался со смертельными ситуациями на 3-м Белорусском и 3-м Прибалтийском фронтах.
В 1948 г. орденоносец Михаил Корнеев поступил на заочное отделение философского факультета ЛГУ (служил в Калининграде), а в 1951 году был после демобилизации переведён на дневное отделение нашего факультета. Он закончил его с отличием в 1953 году. Сочетая активную комсомольскую работу в Университете с научными исследованиями, молодой ветеран Великой Отечественной войны, будучи преподавателем философского факультета, защитил в 1957 г. кандидатскую диссертацию по проблеме «Наука и надстройка». В идеологически сложный переходный период Михаил Яковлевич отважился защитить в 1971 г. докторскую диссертацию «Проблемы социальной типологии личности в марксистской и буржуазной социологии». Вполне закономерно этот боец ленинской партии стал руководить с 1972 по 1992 год факультетской кафедрой современной зарубежной философии и социологии.
Профессор М. Я. Корнеев привнёс заряд воинствующего материализма в университетские аудитории молодых африканских республик (Мали и Гвинея, 1965–1968 гг.), где познакомился с вариантами французского экзистенциализма. Советский доктор философских наук «показал класс» воинствующего экзистенциализма и при чтении лекций в Лейпцигском университете (1973; 1980; 1983) и университете Ориенте (республика Куба, 1979–1980).
На вершине своей творческой деятельности кавалер ордена Отечественной войны и трёх боевых медалей М. Я. Корнеев стал всемирно известным основателем советской научной школы по философской компаративистике и заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Был мастером спорта СССР по лыжам.
Весьма показателен в обозначенном отношении творческий путь моего научного руководителя по кандидатской диссертации – профессора Анатолия Павловича Казакова (1920–1975). Выходец из крестьян Нижегородской губернии, он героически прошёл всю Великую Отечественную войну. Среди его боевых наград главной была та, что считалась высшим отличием солдатской доблести – орден Славы III степени. Будучи человеком цыганского темперамента, Казаков не знал страха ни в рукопашной схватке с фрицами, ни в идеологической битве.
Окончив в 1949 г. курс философского факультета ЛГУ, Анатолий Павлович был принят здесь в аспирантуру и по окончании её защитил кандидатскую диссертацию по категориям марксистско-ленинской философии. Я счастлив, что именно доцент Казаков был квалифицированным руководителем по моей дипломной работе «Диалектическая логика и практика» (1957). Уже тогда мы поняли, что военная практика 40-х годов ХХ века дорогами Великой войны, а потом и кровью героических защитников советского социалистического дела на века подтвердила суровую правду К. Маркса, поставившего философскую категорию практики в основу научной теории бытия и познания.
В переломные 60-е годы русский философ-диалектик А. П. Казаков с позиций исторического материализма высветил основы научной теории общественного прогресса, заложенные знаменитыми предшественниками социологии ленинизма – П. Л. Лавровым, Н. М. Ковалевским, Н. К. Михайловским. Его докторская диссертация «Теория прогресса в русской социологии конца XIX века» стала достойным сертификатом для ведущего профессора кафедры философии гуманитарных факультетов ЛГУ. Жаль, что его жизнь оборвалась ранее пенсионного возраста.
Участник Великой Отечественной войны, потерявший в боях ногу, Анатолий Андрианович Галактионов родился в Петрограде (1922) и, как его ровесники, окончил философский факультет ЛГУ в 1949 г. Ознакомившись с работой Г. В. Плеханова «Materialismus militans» и другими трудами выдающегося пропагандиста марксизма в России, аспирант Галактионов посвятил свою кандидатскую диссертацию анализу плехановской концепции русской материалистической философии XIX в. (1951).
Успешная преподавательская работа А. А. Галактионова на кафедре истории философии ЛГУ с 1952 г. была во многом обусловлена исследованием свободной и бесстрашной философской мысли А. Н. Радищева, М. А. Фонвизина, революционных демократов. Вместе с П. Ф. Никандровым, борясь за объективное освещение истории оригинальных концепций русской философии, доцент Галактионов А. А выступил инициатором их совместной докторской диссертации по истории русской философии (1966). Затем ими же была написана одна из первых марксистских монографий по истории русской философии.
Марксистская методология исследования историко-философского процесса в России позволила профессору Галактионову заострить специфический русский материализм против глобального пессимизма западноевропейской философской мысли XIX–XX веков. В своих новаторских трудах он показал, что с 40-х годов XIX века русская философия «становится “главным стволом мировой философской мысли, параллельным марксизму”, а с началом ХХ в. она превращается в центр марксистской мысли, которая “сняла” научное, диалектико-материалистическое направление русской философии как одного из родников ленинизма» [1, с. 208]. В таком понимании все направления свободолюбивой русской мысли предстали как воинствующий экзистенциализм революционных мыслителей – в противоположность пессимистической деградации западноевропейской философии.
Долгая жизнь Владимира Георгиевича Иванова (1922–2006) сложилась своеобразно: родился в Саратове, а всю войну прослужил на Тихоокеанском флоте. После демобилизации старшина I статьи ВМФ СССР заинтересовался вопросами психологии человека на войне и в 1952 году успешно закончил психологическое отделение философского факультета ЛГУ.
Аспирант кафедры психологии того же факультета Иванов В. Г. своей кандидатской диссертацией по педагогике (1956) отметил великую силу коллективизма в преодолении острых психологических ситуаций. Фиксируя в последующих работах ведущую роль разума и оптимистических идей в социально-психологических процессах, Владимир Георгиевич в 1973 году защитил докторскую диссертацию по философской проблеме «Коллектив и личность».
Интересно отметить, что знаменательный переход от психологии коллективизма к коммунистической идеологии он совершил будучи авторитетным в СССР заведующим кафедрой этики и эстетики в Ленгосуниверситете (1960–1989). Разрабатывая в 70-х – 80-х годах (на основе обобщения богатого опыта советских педагогов) проблемы нравственной культуры личности и теорию нравственных ценностей современного человека, доктор философских наук Иванов В. Г. создаёт такие значительные труды, как «История этики Древнего мира» (Л., 1980) и «История этики Средних веков» (Л., 1984).
Жаль, что по разным обстоятельствам ветерану Великой войны не удалось окончить книгу по истории этики в современную эпоху. Считаю, что это – завет его ученикам на ближайшие 5–10 лет.
Студент филологического факультета Ленинградского университета Моисей Каган (1921–2005) ушёл в июле 1941 г. на фронт добровольцем в составе народного ополчения и был ранен при обороне Ленинграда. Кавалер медали «За отвагу» лечился в госпиталях и был признан инвалидом войны.
Послужив политруком в Пермском госпитале, Моисей Самойлович вернулся в 1944 г. в Ленинград, где за участие в военных действиях был отмечен медалью «За оборону Ленинграда». Одновременно вёл научно-педагогическую работу как аспирант и затем ассистент кафедры истории искусств исторического факультета Ленгосуниверситета. Историко-эстетическое осмысление М. С. Каганом стыков жизни и смерти в прошлом и настоящем человеческом бытии побудило его подготовить кандидатскую диссертацию «Французский реализм XVII века» и успешно защитить её в 1948 году.
С 1960 года началась напряжённая работа доцента, затем профессора Кагана на философском факультете ЛГУ, где он в 1966 году защитил докторскую диссертацию по учебному пособию «Лекции по марксистско-ленинской эстетике». Уже в этом научном труде ветерана Великой Отечественной войны были выражены нотки воинствующего экзистенциализма, которые развернулись в синергетическую картину культурно-философского осмысления противоречивости человеческого бытия.
Можно смело сказать, что вершиной кагановского системного подхода к феноменальной экспликации синергетичного гуманитарного знания стала книга глобального масштаба: Каган М. С. «Се человек: Рождение, жизнь и смерть в волшебном зеркале изобразительного искусства» (СПб, 2001).
Вера Яковлевна Комарова (1919–2007), уроженка Великого Новгорода, с 1937 года училась сначала на историческом факультете Ленгосуниверситета, а с 1940 – на философском факультете. С сентября 1941 года – в Красной Армии, где была отмечена боевыми орденами и медалями. Демобилизовалась в 1945 году и в 1947 году окончила философское отделение нашего факультета. Инвалид войны по ранению. С 1950 года – в аспирантуре на кафедре истории философии ЛГУ, где была затем преподавателем, доцентом, профессором до 1991 года.
Защитив кандидатскую диссертацию по проблемам философии Аристотеля, Вера Яковлевна стала основательно изучать древнегреческий язык, демократическую культуру Античной цивилизации. Приближаясь к пенсионному возрасту, коммунист В. Я. Комарова защитила докторскую диссертацию «Становление философского материализма в Древней Греции. Логико-гносеологический аспект диалектики философского познания» (1976).
В своих трудах по проблемам становления философского материализма в древнегреческой культуре профессор Комарова В. Я. вскрыла диалектическую противоречивость человеческого бытия в этой цивилизации. Она показала, что Гераклит и Парменид искусно постигали диалектику бытия мира и бытия мысли о мире. Основанием этой диалектики оба философа считали бытие как таковое, как существующее само по себе. Русская исследовательница в ХХ в. установила, что античной философии был присущ апорийный характер. Считаю, что этот вывод – один из цивилизационных истоков воинствующего экзистенциализма всех последующих поколений философов-материалистов в мире.
Уральский парнишка Геннадий Подкорытов (1922) начал войну рабочим-десятиклассником. К концу Великой Отечественной войны стал инвалидом. Имея боевые награды и будучи на излечении в госпитале, успешно изучал историю в Пятигорском педагогическом институте (окончил в 1947 г.). Аспирантуру философского факультета ЛГУ окончил в 1951 г. и в своей кандидатской диссертации показал аналитические способности в области диалектической логики.
Ведя преподавательскую работу на философском факультете Ленгосуниверситета, Геннадий Алексеевич Подкорытов стал исследовать логику познания в гуманитарных науках. В итоге в 1968 г. он успешно защитил докторскую диссертацию «Историзм как метод научного познания».
Интерес ветерана войны с фашизмом к историзму как методу гуманитарного познания побудил профессора Подкорытова преподать марксистскую философию студентам и аспирантам чехословацких вузов в 1971–1972 годах. Став затем (1976–1986) заведующим кафедрой философии гуманитарных факультетов ЛГУ, профессор Г. А. Подкорытов воспитывал аспирантов и студентов нашего университета в духе воинствующего экзистенциализма марксистского толка. По его мнению, в историзме должно видеть и теорию мира, и метод его познания. При этом следует чётко различать принцип историзма и исторический метод.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Федорович Смольянинов (1923–1983) был ярким представителем воинствующего экзистенциализма в области марксистско-ленинской эстетики.
Инвалид войны по ранению, студент-фронтовик Смольянинов окончил в 1947 г. историко-философский факультет Воронежского госуниверситета и затем аспирантуру того же факультета (1951). В 1951–1967 гг. он – кандидат наук, преподаёт в Ленинграде различные дисциплины на кафедре марксизма-ленинизма Института им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. Одновременно философские дисциплины Смольянинов преподает на философском факультете ЛГУ. Везде он позиционирует комплексный подход к проблемам связи эстетики с научно-техническим прогрессом и общественной практикой социализма.
В докторской диссертации «Проблема человека в марксистско-ленинской философии и эстетике» (1974) И. Ф. Смольянинов на основе практики художественного познания человека систематизирует огромный и разносторонний советский материал по проблеме человека. На этой методологической базе в последующих трудах он, будучи уже профессором кафедры философии гуманитарных факультетов ЛГУ, показывает, что динамичная личность бытийствует как продукт сложной диалектики природной и социальной детерминации человека.
Всеми своими трудами по проблемам человеческого существования в ХХ веке профессор И. Ф. Смольянинов обосновал реальную возможность построения универсальной модели личности как субъекта реального гуманизма.
К поколению советских воинов, не ведавших «страха и трепета» западных граждан перед лицом германского фашизма, относился и мой коллега по кафедре исторического материализма Валерий Антонович Почепко (1922–1975). Украинский десятиклассник Валерий встретил войну в рядах Красной Армии, будучи уже опытным мастером бокса. Теперь ему предстояло 4 года, преодолевая страх смерти, без трепета перед фашистской силой защищать Советскую власть и отстаивать перед злейшим врагом человечества ленинско-сталинское дело трудового народа.
Отмеченный орденом Боевого Красного Знамени и другими боевыми наградами, в частности, за участие в штурме Кенигсберга, В. А. Почепко в 1951 г. окончил с отличием философский факультет ЛГУ и затем успешно защитил кандидатскую диссертацию «Социалистическая государственность и общественное коммунистическое самоуправление» (1964), где показал современное значение методологии воинствующего материализма.
Между прочим, современным сторонникам неокантианства не мешало бы знать, что, как вспоминал Валерий Антонович, во время посещения группой советских офицеров могилы И. Канта в только что взятом Кенигсберге кто-то из них задал покойному философу риторический вопрос: «Теперь-то ты понимаешь, Кант, что материя первична?!».
Работая с 1967 года доцентом на головной кафедре философского факультета ЛГУ, В. А. Почепко разрабатывал тему докторской диссертации по проблемам теории социальной революции. К сожалению, до своей смерти (в октябре 1975 года), он успел лишь опубликовать монографию «Ленин и проблемы мирового революционного процесса» (Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1975. – 103 с.) Революционный энтузиазм советского воина-победителя стал лучшим ответом на интеллектуальные терзания немецких и французских философов-экзистенциалистов.
* * *
В связи с некоторыми обстоятельствами мне не удалось конкретизировать обозначенную в заголовке позицию ряда перечисленных ветеранов философского факультета старейшего Российского университета. Одно только можно сказать твёрдо: все они были высокоинтеллектуальными носителями коммунистической партийности в мировой философии. Они с честью преодолели в своём научном творчестве все препоны судьбы, связанные с «Ленинградским делом» и со сложными событиями в отечественной философской науке и образовании в конце XX – начале XXI века.
Есть надежда на то, что выпускники философского факультета (Института философии) Санкт-Петербургского государственного университета конца XX – начала XXI веков не упустят из виду тот мудрый интеллектуальный багаж, которые оставили им в наследство наши ветераны идеологических битв ХХ века.
Литература
1. Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий: биографии, идеи, труды. – М.: Академический Проект, 2002. – 1152 с.
2. Профессора Санкт-Петербургского государственного университета: биобиблиографический словарь / Сост. Г. А. Тишкин. – СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского университета, 2004. – 756 с.
3. Гайденко П. П. Экзистенциализм и проблемы культуры. – М.: Высшая школа, 1963. – 120 с.
4. Ермичёв А. А. Бердяев Николай Александрович // Русская философия: Энциклопедия. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2014. – С. 49–51.
References
1. Alekseev P. V. Philosophers of Russia of XIX–XX Centuries: Biographies, Ideas, Works [Filosofy Rossii XIX–XX stoletiy: biografii, idei, trudy]. Moscow, Akademicheskiy Proekt, 2002, 1152 p.
2. Tishkin G. A. Professors of Saint PetersburgStateUniversity: Bibliographic Dictionary [Professora Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta: biobibliograficheskiy slovar]. Saint Petersburg, Izdatelskiy dom Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2004, 756 p.
3. Gaydenko P. P. Existentialism and the Problems of Culture [Ekzistentsializm i problemy kultury]. Moscow, Vysshaya shkola, 1963, 120 p.
4. Ermichev A. A. Berdyaev Nikolay Aleksandrovich [Berdyaev Nikolay Aleksandrovich]. Russkaya filosofiya: Entsiklopediya (Russian Philosophy: Encyclopedia). Moscow, Knizhnyy Klub Knigovek, 2014, pp. 49–51.
Ссылка на статью:
Комаров В. Д. Образец воинствующего экзистенциализма в трудах профессоров философского факультета Ленинградского государственного университета // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2015. – № 3. – С. 13–23. URL: http://fikio.ru/?p=1819.
© В. Д. Комаров, 2015