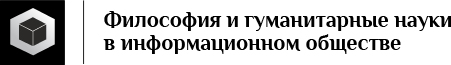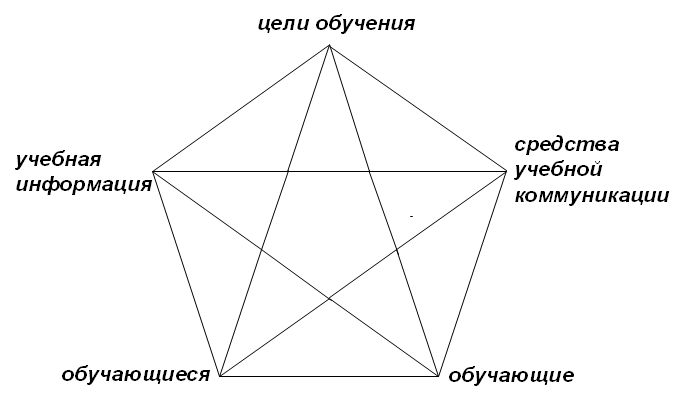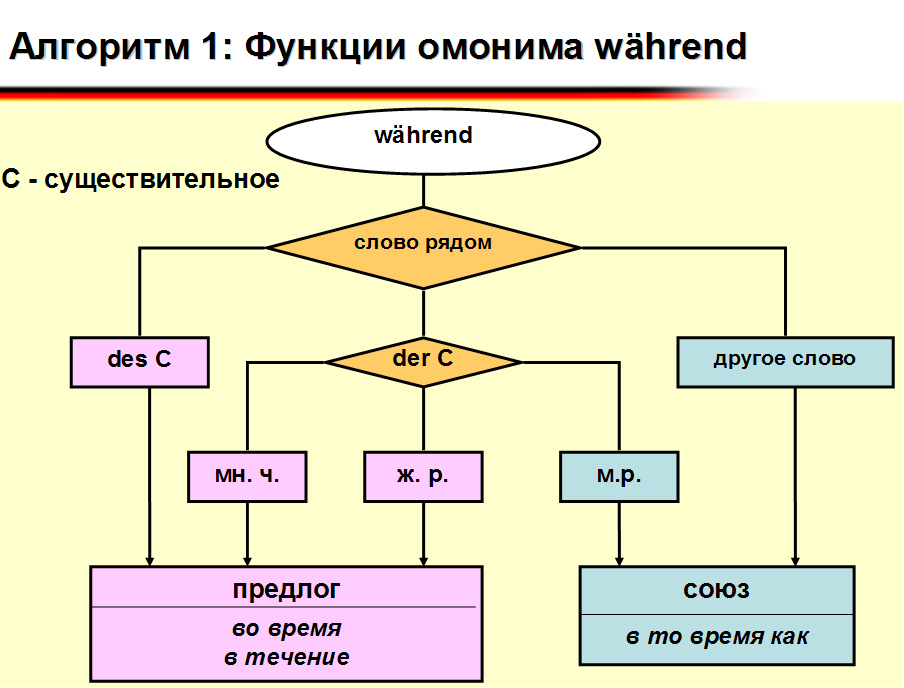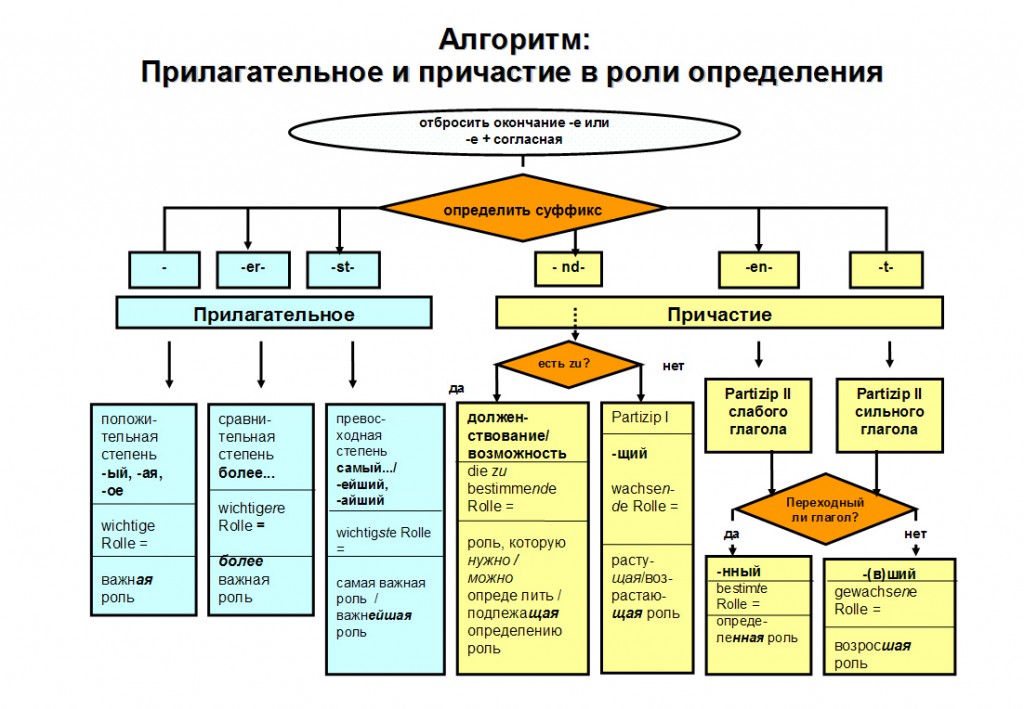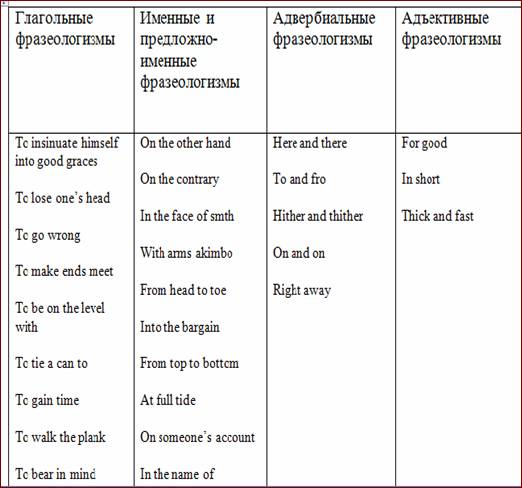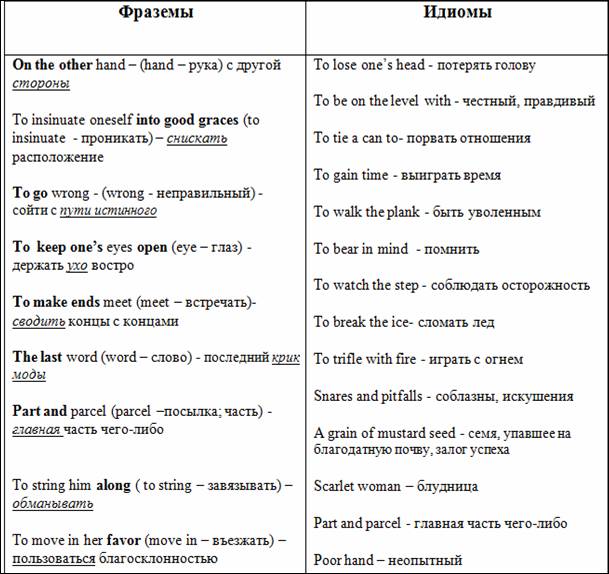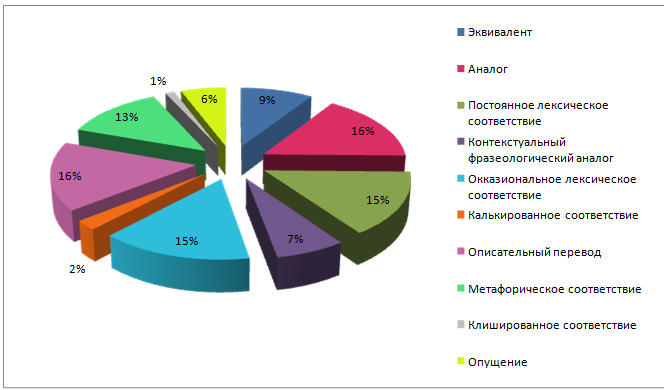УДК 930.85+94(47).084.6:470(23–25)
Смирнова Тамара Михайловна – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения», кафедра истории и философии, профессор, доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: mokva@inbox.ru
196135, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15,
тел.: 8(812) 708-42-05
Авторское резюме
Состояние вопроса: В 20-30-ые годы Советское государство проводило целенаправленную политику по развитию национальных культур народов СССР. В этой работе были достигнуты значительные успехи, но имелись и неудачи. Характерным эпизодом в реализации культурной политики данного периода является мало исследованная до настоящего времени история первого украинского государственного театра в РСФСР – театра «Жовтень» («Октябрь») в Ленинграде (1930 – 1931 гг.).
Результаты: Постоянная работа национального украинского театра вне этнической среды и этнополитической территории была попыткой непосредственного художественного контакта украинской культуры с русскоязычной публикой, смелым опытом кросс-культурного взаимодействия. Главной задачей театра «Жовтень» было продвижение современной украинской драматургии и сценического искусства как способа показа советской украинской культуры – составной части интернациональной культуры СССР. Процесс презентации украинского советского театрального искусства проходил в борьбе с «малороссийщиной» – этнографически-бытовым и историко-романтическим репертуаром, классово размытым содержанием и традиционными приемами актерской игры. Театр «Жовтень» вступал также в творческое соревнование с русскими театрами, когда одна и та же украинская пьеса одновременно шла в оригинале в украинском театре и в переводе – на сцене Государственного театра драмы или Большого Драматического театра.
Выводы: История театра «Жовтень» оказалась недолгой (неполных два сезона). Основными причинами его ликвидации были неопределенность статуса, невозможность функционирования без государственных дотаций, отсутствие массового постоянного зрителя в городе и изменение культурной политики в стране. Дошедшие до нас документы, отражающие историю театра «Жовтень», позволяют в полной мере ощутить атмосферу той эпохи, одновременно суровую и наивную, услышать голоса людей – социальных оптимистов, уверенных в своей правоте и в существовании простых классовых решений для всех мировых проблем.
Ключевые слова: украинский театр; Ленинград; «Жовтень»; РСФСР; УССР; малороссийщина; Наркомпрос; Главискусство; Посредрабис; Рабис; Сорабис (союз работников искусств); культпоход; Т. Г. Шевченко; Д. Ровинский; Л. Курбас; И. Микитенко; Г. Кобец; А. Корнейчук; О. Вишня.
‘Man Proposes, God Disposes’[1]:
The Ukrainian State Theatre in Leningrad
(From the History of the Soviet Cultural Policy)
Smirnova Tamara Mikhaylovna – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Department of History and Philosophy, Doctor of Letters, Professor, Saint Petersburg, Russia.
E-mail: mokva@inbox.ru
15, Gastello st., Saint Petersburg, Russia, 196135,
tel: +7(812)708-42-05.
Abstract
Background: In the 1920 – 1930s the Soviet government pursued the deliberate policy for national culture development of the nations living in the USSR. Although that activity was a great success, it suffered some reverse. A typical episode in cultural policy implementation of that period is the history of the first Ukrainian state theatre in the RSFSR – ‘The Zhovten’ (‘The October’), Leningrad (1930 – 1931).
Results: The constant functioning of the national Ukrainian theatre beyond its ethnic group and ethno-political territory was an attempt of direct art interaction of Ukrainian culture with Russian public, a considerable experience of cross-cultural communication. The main goal of ‘The Zhovten’ theatre was to promote the contemporary Ukrainian dramatic techniques, to show Soviet Ukrainian culture as integral part of the international culture of the USSR. The staging of the Ukrainian Soviet drama took place in parallel with the criticism of historical, romantic plays and dramas of everyday life with traditional acting and ethnic plot. There existed a competition between ‘The Zhovten’ and some Russian companies. The same Ukrainian drama ran simultaneously in the original in the Ukrainian theatre and in translation in the State Theatre or the Bolshoi Theatre.
Conclusion: The history of ‘The Zhovten’ was not long (less than two seasons). The main reasons of its liquidation were as follows: its indefinite status, lack of government grant and the audience in Leningrad as well as the change of cultural policy in the country. The documents studied allow us to feel the atmosphere of that epoch, both tense and naive, to hear the voices of people who being social optimists were confident in their truth. They were sure that there existed easy class solutions to all world conflicts.
Keywords: the Ukrainian theatre; Leningrad; ‘the Zhovten’; RSFSR; USSR; Malorossiyschina; Narkompros; Glaviskusstvo; Posredrabis; Rabis; Sorabis (soyuz rabotnikov iskusstv); kultpokhod; T. G. Shevchenko; D. Rovinskiy; L. Kurbas; I. Mikitenko; G. Kobets; A. Korneychuk; O. Vishnya.
С весны 1919 г. в Петрограде – Ленинграде работали многочисленные украинские труппы, создавая театры-коллективы – объединения актеров, административного и технического персонала, деятельность которых велась на основе хозрасчета. Работники театра курировались профессиональным союзом работников искусств (Сорабис). Театры-коллективы регистрировались в Посредническом бюро работников искусств (Посредрабисе), представлявшем особое подразделение городской Биржи труда. Точное число украинских театров-коллективов подсчитать довольно затруднительно, но их было от 15 до 20. Следует выделить первый в Петрограде Украинский театр им. Шевченко, Единый Украинский театр, театр при Украинском Доме просвещения – театр И. Я. Юхименко, а также студию РАТЕАМАЙСТ, Ленинградский Украинский театр (режиссер А. Ф. Мокин), Молодой Украинский театр, Передвижной Украинский театр. Долгое время репертуар украинских трупп не менялся, представляя собой традиционный набор так называемых «малороссийских» пьес этнографически‑бытового и романтическо‑исторического характера, сочетающих драму и музыкальные жанры.
Попытки реформировать украинский театр в Ленинграде в соответствии с требованиями советской идеологии и театральными новациями предпринимались во второй половине 1920-х гг. несколько раз. Театры ставили современный репертуар – пьесы советских авторов Я. Мамонтова, И. Днепровского, Н. Кулиша, И. Микитенко на актуальные темы, одновременно стремясь также преодолеть сценический консерватизм традиционного национального театра.
Но обновление ленинградского украинского театра в основном связано с первым украинским государственным театром на территории РСФСР – театром «Жовтень» (1930 – 1931 гг.). На ленинградской сцене появилась новая украинская советская пьеса и подлинная украинская классика, новая сценография и новая режиссура, воспитанные в новой творческой манере актеры. Театр «Жовтень» преодолел застарелые пороки украинской театральности и вошел в число интересных современных коллективов без налета этнографичности.
Делегация украинских писателей во время своего посещения Ленинграда в феврале 1929 г. высказала пожелание об организации в этом крупном пролетарском центре современного украинского театра, пользующегося поддержкой и руководством народных комиссариатов просвещения РСФСР и УССР [см.: 11; 12]. Хотя такой театр не назван прямо государственным, но апелляция к государственным органам двух республик не оставляет места другому толкованию. Опираясь на это мнение, художественный руководитель Ленинградского Украинского театра А. Ф. Мокин в марте представил худсовету проект организации в Ленинграде украинского советского государственного театра [см.: 24, оп. 2, д. 1548, Л. 12 – 13; см.: 6, с. 15]. В задачи нового театра должно было войти «проведение Украинско-советской национальной политики, основанной на принципах современного общественного подхода к построению театра». Проект был принят и представлен на рассмотрение Правления Домпросвета им. Петровского [см.: 15, 1929, № 13, 24 марта, с. 15].
19 апреля 1929 г. Ленинградский областной Театральный совет постановил: «Принимая во внимание, что в Ленинграде проживает 30 тысяч украинцев… а также считая, что для русской рабочей массы необходимо ознакомиться с достижениями украинской современной культуры, и учитывая, что секция Нацмен областного отдела народного образования эту точку зрения поддерживает, – признать организацию современного украинского театра в Ленинграде необходимой» [15, 1931, № 2, 21 января, с. 10]. 27 апреля Совет возбудил ходатайство перед Главискусством РСФСР об организации государственного украинского театра «с дотацией по твердой сети Гостеатров» [23, оп. 1, д. 3, л. 32]. Главискусство РСФСР и Наркомпросы обеих республик признали, что организация государственного Украинского театра в Ленинграде необходима. Наркомпрос Украины делегировал на должность директора-художественного руководителя создающегося театра актера и режиссера Дмитрия Демидовича Ровинского [см.: 23, д. 3, л. 34], одного из организаторов, затем художественного руководителя первого на Украине государственного театра им. Т. Г. Шевченко (Харьков, позже Днепропетровск). Ленсовет предоставил Д. Ровинскому жилплощадь по адресу наб. р. Мойки, 24, кв. 22.
В мае 1929 г. в журнале «Рабочий и театр» появился анонс: «В Ленинграде организуется Государственный Национальный Украинский театр» [15, 1929, № 20, 19 мая, с. 16.]. Идею создания театра горячо поддержала ленинградская украинская общественность – фракция коммунистов Дома просвещения, украинское землячество, актеры украинских трупп. В Ленинграде была начата работа по организации общества друзей Украинского театра [см.: 15, 1929, № 21, 25 мая, с. 15]. Домпросвет им. Г. Петровского развернул усиленную кампанию «за создание в городе Ленина подлинно художественного современного украинского театра», ее поддержали партийные, профсоюзные и общественные организации Ленинграда, Центральный и Всеукраинский комитеты Сорабиса [см.: 15, 1930, № 23, 26 апреля, с. 11].
10 августа 1929 г. Главискусство уведомило общественность Ленинграда, что театр предусматривается сметой 1929/30 финансового года с дотацией 40 тыс. руб. Одновременно было возбуждено ходатайство перед Совнаркомом РСФСР об отпуске украинскому театру 50 тыс. руб. и направлена просьба в Наркомпрос Украины – выделить театру 22 тыс. руб. [см.: 22, оп. 1, д. 3, л. 32]. Однако на практике оказалось, что театр «выпал из бюджета НКП РСФСР» на 1930 год [22, оп. 1, д. 3, л. 26] (нерегулярное финансирование из резервного фонда наркомата начнет поступать только весной 1930 г., и в гораздо меньшем объеме).
30 сентября 1929 г. в Ленинградском областном отделе Сорабиса состоялось совещание по вопросу организации государственного украинского театра, в котором приняли участие Д. Ровинский, А. Мокин, председатель Украинского землячества Педан, представители Рабиса Лукин и Барбетти, а также несколько ленинградских украинских актеров (Схидный, Самарский и др.). Основным докладчиком был Д. Ровинский, задачей театра он назвал представительство современной украинской культуры и борьбу с малороссийщиной, а его форму определил как «реальный конструктивизм». Труппа должна формироваться в основном из актеров государственных театров Украины, а для местных актеров будет создана отборочная комиссия. Актерский цех будет состоять из 30 актеров и 18 актрис, а всего в театре будет занято до ста человек. Д. Ровинский называет суммы дотации театру – 40 и 20 тыс. руб., ожидаемые от РСФСР и УССР. Кроме финансовых проблем, главным препятствием для формирования театра в это время было отсутствие площадки [см.: 22, оп. 1, д. 130, л. 4].
Наконец, к декабрю 1929 г. вопрос был переведен в практическую плоскость. В журнале «Рабочий и театр» появилась заметка: «Вопрос о создании в Ленинграде Украинского Национального театра решен окончательно. Соответствующими органами отпущены для организации театра необходимые средства. Однако, в виду отсутствия в настоящее время стационарной площадки Украинский театр откроется только в будущем сезоне» [15, 1929, № 51, 22 дек., с. 14].
Весной 1930 г. Ленискусство определило помещение для театра на ул. Ракова (Итальянской), 19 – театр бывший «Пассаж» Ленинградского Союза потребительских обществ (ЛСПО), аренда которого коллективом театра «Комедия» заканчивалась 1 июля. Подписав договор на помещение, художественный руководитель украинского театра, символически названного «Жовтень» («Октябрь»), выехал на Украину для формирования труппы [см.: 15, 1930, № 23, 26 апр., с. 11; № 38, 10 июля, с. 15].
И все же вопрос о статусе украинского театра в Ленинграде вызывал споры. Заведующий сектором по делам искусств Наркомпроса РСФСР Феликс Кон 26 июля 1930 г. в служебной записке на имя народного комиссара просвещения А. С. Бубнова определенно высказался против включения ленинградского украинского театра в сеть государственных театров, мотивируя свое мнение тем, что в случае придания ему государственного статуса «целый ряд национальных театров, как Еврейский, Татарский и др. потребуют того же». Правильным решением Ф. Кон считал передачу украинского театра в ведение местного, Ленинградского Управления зрелищных предприятий [см.: 23, оп. 1, д. 3, л. 39].
По всей видимости, от сектора искусств было затребовано более подробное объяснение по поводу украинского театра в Петербурге, так как через два дня наркому просвещения поступила новая служебная записка, теперь от заместителя заведующего сектором искусств Литовского, в которой акцент был несколько смещен: «Сектор по Делам Искусств считает существование Украинского театра «Жовтень» важным и необходимым. … Что же касается вопроса включения в сеть Гос. Ак. Театров, то это можно делать после выявления художественно-идеологического лица театра» [23, д. 3, л. 37] [курсив мой – Т. С.]. (Получается, что включение в перечень государственных расценивалось как признание академического уровня театра, что, конечно, не тождественно).
21 октября 1930 г. в газете «Известия» было опубликовано постановление № 8 Совета Народных Комиссаров РСФСР от 7 октября «Об улучшении театрального дела». Среди мер по коренному улучшению «практики театральной работы» третьим пунктом значилось: «Сеть национальных театров должна быть расширена и укреплена». На основании этого постановления было издано постановление Наркомпроса РСФСР № 419 от 23 октября 1930 г., которым сектору искусств и литературы предписывалось, среди прочего, разработать «план передвижного обслуживания украинского населения РСФСР, возложив эту задачу на Украинский театр в Ленинграде» [курсив мой – Т.С.]. Кроме того, в Москве и Ленинграде в кратчайшие сроки – к 15 ноября – областные отделы народного образования обязаны были представить доклады о практических мероприятиях по созданию областных «теа-объединений» [23, д. 4, л. 79–80; см.: 15, 1930, № 58–59, 31 окт., с. 2; 1931, № 2, 21 янв., с. 10].
В итоге Наркомпрос рекомендовал прикрепить театр «Жовтень» к Управлению Ленинградскими государственными театрами, на что директор Ленгостеатров В. Бухштейн 19 ноября 1930 г. отвечал сектору искусств НКП: «… ввиду полной неясности в вопросе обеспечения Ленинградских Гостеатров необходимой дотацией такое прикрепление возможно только после перечисления твердо обеспеченной Наркомпросом дотации этому театру в наш бюджет», а вопрос об украинском театре будет рассмотрен «на днях» в связи с организацией Областного Управления Ленинградскими театрами [см.: 23, оп. 1, д. 3, л. 30]. Все же 6 января 1931 г. НКП РСФСР постановил временно прикрепить «Жовтень» к Управлению гостеатров в Ленинграде [см.: 23, д. 4, л. 21].
Разночтения в понимании официального статуса и подчиненности украинского театра в Ленинграде, а главное, отсутствие строки о необходимой ему дотации в сумме 40 тыс. рублей в бюджете Наркомпроса 1930 года [см.: 23, д. 3, л. 37] – с самого начала ставили существование театра под угрозу. Но политическая целесообразность перевешивала финансовую необеспеченность проекта, и формирование театра продолжалось.
Руководство театра «Жовтень» принципиально отказывалось от тех украинских художественных сил, которые были в Ленинграде, не вполне справедливо считая их совершенно устаревшими, а их метод и репертуар отжившими. Заведующий литературной частью нового театра А. Ирий писал в апреле в журнале «Рабочий и театр», широкими мазками характеризуя «так называемые украинские коллективы и труппы»: «Репертуар их – допотопный, никому не нужный, враждебный современности, реакционный и националистически‑шовинистический, от спектаклей (бытовые пьесы, оперетки) веет такой седой стариной, как будто не народилось ничего нового!» [7, с. 11]. Эту же мысль он развивает и в октябре: «так называемые «малороссийские труппы» … компрометирующие перед рабочим зрителем современную украинскую культуру. Подобного рода театры подвизались и в Ленинграде» [20].
Почти все государственные театры Украины («Березиль», им. И. Франко, им. Т. Г. Шевченко, им. М. Заньковецкой, Краснозаводский из Харькова, «Веселый пролетарий», Одесский драматический) делегировали своих лучших работников в Ленинград, в Украинский Государственный театр «Жовтень» [см.: 15, 1930, № 38, 10 июля, С. 15]. К осени 1930 г. состав театра «Жовтень» сформировался в следующем составе: художественный руководитель и директор Д. Д. Ровинский, инспектор театра Н. Муренко, администратор П. Молчанов, заведующий литературной частью А. В. Ирий, заведующая сектором массовой работы Ф. Шаповал, режиссеры‑постановщики: заслуженные артисты Украины В. Василько (худрук Краснозаводского театра) и Е. Коханенко, Александра Искандер, А. Смирнов, Е. Лишанский; помощник режиссера А. Головченко; художник‑постановщик В. Шкляев (из театра им. И. Франко), художники А. Петрицкий (из Харьковского Академического театра оперы и балета), Н. Маткович, А. Инов; композиторы Ф. Козицкий, Н. Пруслин и Б. Яновский; заведующий музыкальной частью Л. Энтелис, хореографической – Б. Борей, дирижер И. Штейнман, концертмейстер Т. Рябая. В театре был собственный оркестр из 15 человек, в том числе струнный квартет в составе Эриша, Штейнмана, Кутика и Пинта. Труппа театра состояла из более 40 актеров, большая часть которых, как и худрук, была из театра им. Т. Г. Шевченко, в том числе три заслуженных артиста УССР: Евгения Сидоренко, Федор Левицкий и Евгений Коханенко. В труппу также входили актеры С. Ващук, А. Гайдабура, Д. Гайдамака, С. Гудзенко, Н. Губарь, М. Дейнека, Я. Ивахненко, Н. Иноземцев, А. Каневский, И. Корж, А. Левицкий, Д. Лысенко, Э. Лютик, В. Мова-Стецюр, С. Моргун, М. Романовский, М. Семенюта, Д. Степовой, В. Стукаченко, М. Терещенко, В. Щеголев; актрисы Ю. Боур, Н. Будак, Е. Гриневич, Ф. Дузь, В. Забайналова, Е. Ковтун, Н. Лебедева, М. Лютик, М. Маркова, Е. Никитченко, Л. Обломиевская, А. Смирнова-Лысенко, З. Татаренко, М. Шульга, Г. Эдвард.
Но преемственность в украинском театре Ленинграда все же прервана не была, и в состав труппы «Жовтня» вошли также ленинградские украинские актеры Н. Арская, Е. Гордиенко, Г. Бойко, В. Разсудов‑Кулябко, И. Рожко, О. Яковлева, А. Самарский. Кроме того, новый театр привлек к активной работе в качестве вспомогательного состава труппы драмкружок Украинского Домпросвета [см.: 15, 1930, № 52 – 53, 26 сент., с. 8; 10, 1930, № 58, 21 – 25 окт., с. 2; № 61. 6 – 10 нояб., с. 2, 11].
В целом, основной состав театра включал 35% работников, начавших свою деятельность до революции, и 65% «молодняка», окончившего на Украине театральные учебные заведения [см.: 23, оп. 1, д. 10, л. 13 об.].
8 сентября 1930 г. Коллегия Наркомпроса «в целях увековечения памяти украинского писателя М. Коцюбинского» постановила присвоить украинскому театру в Ленинграде «Жовтень» имя М. Коцюбинского [23, д. 3, л. 38], однако следов этого мемориального именования не обнаружено – во всех документах театр назывался всегда просто «Жовтень».
Открытие сезона в театре «Жовтень», первоначально планировавшееся на середину сентября, несколько задерживалось – театральная площадка «Пассажа» коренным образом переоборудовалась: по сообщению журнала «Рабочий и театр», была установлена вращающаяся сцена с изменением ее размеров так, чтобы авансцена находилась над оркестром, вследствие чего сам оркестр становился невидимым для зрителя; зрительный зал был заново отделан с перекраской интерьера в голубой и белый цвета [см.: 15, 1930, № 56 – 57, 20 окт., с. 14]. (Некоторые сомнения в кардинальном преобразовании сцены вызывают строки из объяснительной записки к Промфинплану театра на следующий, 1931 год: «Театру необходимо для правильной работы сделать врезной круг, приобрести световые аппараты, произвести ремонт железного противопожарного занавеса») [23, оп. 1, д. 10, л. 17 об.]. Вместимость зрительного зала составляла от 853 до 890 мест (по разным документам) [23, д. 10, л. 14 об.; д. 3, л. 59]. Помещение было дорогим – аренда стоила 22950 руб., что было совершенно неподъемным для начинающего театра, в связи с чем Леноблрабис 16 июля и Центральный Комитет Рабис 20 июля 1930 г. обратились в НКП РСФСР с ходатайством освободить театр «Жовтень» от арендной платы, переведя театральное помещение из подчиненности ЛСПО в ведение Ленинградского ОблОНО. Сектор искусств Наркомпроса поддержал ходатайство [23, д. 3, л., 31, 35], тем более, что к постановлению СНК РСФСР «Об улучшении театрального дела» было принято дополнение № 8-а, по которому предписывалось «Наркомфину РСФСР совместно с НКП и НКВД в 15-дневный срок пересмотреть существующую систему обложения театров налогами и сборами, а также оплаты коммунальных услуг, чтобы эти театральные предприятия были приравнены в отношении взимания налогов к политико-просветительным учреждениям» [23, д. 4, л. 79]. Однако еще и в первой половине 1931 г. театр не был «изъят от ЛСПО», а 10-типроцентный местный налог со зрелищ «висел» на нем всегда [23, д. 4, л. 21; д. 10, л. 17].
Ленинградские партийные и советские органы гораздо большее внимание уделяли созданию украинского театра как политической и идеологической акции, на страницах печати пропагандировались декларируемые театром цели и анонсировались постановки. Это было связано, прежде всего, с тем, что задача театра – «воплощать в национальной форме общие идеи социалистического строительства и культурной революции», знакомить «пролетариев города Ленина с подлинной украинской культурой и выросшим после Октября национальным искусством» [15, 1931, № 12, 1 мая, с. 17; 17. 1931. [Б. м.]; [Б. г.], с. 26] – была политико‑просветительной, способствовала воспитанию советского человека – интернационалиста, утверждала достижения национальной политики большевиков. Художественный руководитель театра Д. Ровинский, формируя творческое кредо театра, также в первую очередь выделял политический аспект: «быть связующим культурным звеном между братскими союзными республиками… в Ленинграде выковаться в подлинно пролетарский театр, национальный по форме, интернациональный по содержанию… всемерно бороться с малороссийщиной, как оружием классового врага», для чего необходимо овладеть марксистским методом и применить его в театре. Ему вторил режиссер и актер Е. Коханенко: театр «абсолютно отмежевывается от этнографии и бытовизма, считая их ненужными, тормозящими явлениями в пролетарском искусстве» [15, 1930, № 58 – 59, 31 окт., с. 14].
Это была «генеральная линия» театра «Жовтень», продекларированная и в производственном плане на 1931 год: «Проводить в жизнь ленинскую национальную политику, внедряя в сознание широких трудящихся масс значение интернационального воспитания и социалистического строительства … демонстрируя современную индустриально-колхозную советскую Украину и ее достижения, поведет беспощадную борьбу с реакционной малороссийщиной… существующей не только в захолустьях РСФСР, но и в центрах, одурманивающую зрителя старыми идеологически-вредными пьесами, всевозможными «грицями», «жидивками», «цыганками», «гопаком» и «горилкою». Но дело не только в устаревшем репертуаре, но и в творческом методе: недопустимо ставить пьесы «революционной советской драматургии приемами старого малороссийского театра», и тем самым еще более дискредитировать украинский советский театр и вредить «правильному ознакомлению русского пролетариата с культурными достижениями братской республики» [23, оп. 1, д. 10, л. 13].
В соответствии с этими установками планировался репертуар театра – основное место в нем занимала украинская советская драматургия. На сезон 1930-31 г. анонсировались «Диктатура» и «Кадры» И. Микитенко, «Гута» Г. Кобеца, «Коммольцы» и «Неизвестные солдаты» Л. Первомайского, «Патетическая соната» Н. Кулиша, «Шпана» В. Ярошенко, «Яблоневый полон» И. Днепровского. При этом все спектакли современной проблематики театр посвящал, в соответствии с их темой, разным организациям и движениям: ударным бригадам Ленинграда, пролетарскому студенчеству – «пролетстуду», комсомолу, Красной Армии и Флоту. Кроме пьес современных авторов, театр намеревался поставить подлинную украинскую классику – «Гайдамаков» Т. Г. Шевченко и «Лесную песню» Леси Украинки [15, 1930, № 56 – 57, 20 окт., с. 14; Спутник по ленинградским театрам: 1931, с. 26]. В планах «Жовтня» значилась и пьеса еврейского драматурга Переца Маркиша «Земля» [см.: 23, оп. 1, д. 10, л. 13 об.]. Однако не все из этих планов удалось осуществить.
По традиции родного для большинства труппы «Жовтня» театра им. Т. Г. Шевченко, задолго до открытия театра началась активная работа с будущей зрительской аудиторией (заведующая сектором массовой работы Ф. Шаповал). Актеры организовали ударную концертную бригаду и выступали в домах культуры, клубах и красных уголках различных предприятий и учреждений Ленинграда [см.: 15, 1930, № 58 – 59, 31 окт., с. 15]. В сентябре 1930 г. Д. Ровинский в служебной записке заместителю наркома просвещения УССР Полоцкому просил, чтобы Всеукраинское Общество культурной связи с заграницей с целью ликвидации «украинской неосведомленности среди широких масс РСФСР» изготовило несколько выставок для театра «Жовтень» на темы: «Украина сегодня», «Соцстроительство и перестройка села» как противопоставление понятию Украины Гоголя, а также выставок украинского искусства, графики, скульптуры, украинской периодики [см.: 23, оп. 1, д. 3, л. 26 – 27 об.]. Выставка «Украина сегодня» – о современной индустриальной Украине, «для ознакомления трудящихся Ленинграда с украинской действительностью в противовес представлениям о ней по произведениям старых русских поэтов» – была сделана и открылась перед премьерным спектаклем «Диктатура» в помещении театра [см.: 15, № 60 – 61, 6 нояб., с. 19].
В печати с начала октября была развернута реклама «первого в РСФСР государственного украинского театра» и его премьерного спектакля. Билеты на премьеру с 7 по 22 ноября были распределены заранее и приобретены профсоюзными организациями крупнейших предприятий, обкомами профсоюзов, райкомами комсомола для культпоходов. Так, 7 ноября в театр «Жовтень» шли работники фабрики «Скороход», 8-го утром – завода «Севкабель», вечером – комсомольцы Смольнинского района, 9-го – Василеостровского, 11-го – Московского, 12-го – сотрудники «Красной газеты» и пролетарское студенчество, 13-го – работники завода «Красный Октябрь», 14-го – «Электрика», 15-го – профсоюз работников земли и леса. 10 ноября был открытый просмотр для культактива профсоюзов и ударных бригад фабрик и заводов, 22 – для Землячества пролетарского студенчества Украины, и только на 23 ноября билеты продавались в кассе театра [см.: 15, 1930, № 56 – 57, 20 окт., с. 14; № 58 – 59, 31 окт., 3-я стр. обл.].
Театр «Жовтень» открылся в 13‑ю годовщину Октября, 7 ноября 1930 г., спектаклем по социальной драме И. Микитенко «Диктатура», написанной в 1928 г. и посвященной классовой борьбе в деревне в процессе хлебозаготовок (постановка Е. Коханенко). Сложная и «многонаселенная» пьеса с разнообразными социальными типажами была по плечу только сильной труппе и уверенной режиссуре, и театр блестяще справился с трудной задачей – он оправдал надежды классово ориентированных зрителей и критики. На первую постановку театра откликнулись многие периодические издания. Первой рецензией стала заметка Л. Тасина в утреннем выпуске «Красной газеты» от 9 ноября. Рецензент отметил достоинства пьесы, назвав ее одним из лучших произведений советской драматургии, и высоко оценил работу театра, который «тщательно разработал пьесу и создал нужный художественный спектакль. В постановке «Диктатуры» совершенно не чувствуется традиции старого «малороссийского» спектакля. … С положительной стороны выявил себя и актерский состав театра, показавший, что он способен поднять серьезную, большую пьесу». Только музыкальное оформление охарактеризовано негативно, как резкий диссонанс, никак не связанный с темой и отдельными эпизодами спектакля [см.: 19].
Член драматической секции Ленинградской Ассоциации пролетарских писателей Г. Горохов в журнале «Рабочий и театр» особенно подчеркивал, что «социальный смысл классовой борьбы вскрыт чрезвычайно глубоко и верно… Конец кулака предопределен ходом социально-исторических процессов и кулацкий террор не спасет кулачество от ликвидации его, как класса. Эту идею постановщик пьесы Коханенко и весь состав исполнителей поняли не механически, а творчески глубоко. И это позволило им, используя приемы и сильного драматизма, и тонкой иронии, и мягкого лиризма и порой неуловимого гротеска, – довести идею пьесы до каждого зрителя». Художник-постановщик Н. Маткович интересно сочетал конструкции и натуральные детали, что позволяло быстро переключать действие. Некоторые претензии предъявлялись к музыке (композитор Ф. Козицкий), звучавшей исключительно иллюстративно. В целом театр создал «высоко культурный спектакль» и первой своей работой «доказал право на существование и поддержку всей ленинградской общественности» [5].
Через две недели журнал вернулся к «Диктатуре» в театре «Жовтень». А. Котвицкий охарактеризовал постановку как блестящую работу, «подлинно художественный спектакль … мастерски разыгран актерами, образы кулака, бедняка и жителей села получили в исполнении актеров украинского театра настоящее толкование». Спектакль горячо рекомендовался «рабочему зрителю» [9].
Некто рабкор Е.О. в журнале «Работница и крестьянка» подробно пересказывает фабулу пьесы И. Микитенко и дает краткую оценку спектаклю: картина классовой борьбы в деревне проходит перед зрителем «наглядно, ярко, убедительно … Общее впечатление сильное и глубокое, особенно от последних сцен». В отличие от других рецензий, здесь положительно отмечается музыкальное сопровождение постановки: хоровое украинское пение между картинами оттеняет содержание пьесы.
Одновременно с украинским театром пьесу «Диктатура» в Ленинграде поставил и Государственный Театр драмы (бывш. Александринский), так что и рецензии на оба спектакля публиковались синхронно. В отклике М. Янковского в журнале «Рабочий и театр» отмечалось, что в Госдраме, где главную роль рабочего Дударя играл Н. Симонов, «спектакль сделан крепко, хотя слабы массовые сцены», «работа заслуживает полнейшего признания». Критически было оценено оформление спектакля – «наивный фольклорный пейзаж, и тут же бурлящая деревня… Этот пейзаж дискредитирует политическую насыщенность пьесы» [25, с. 10]. В тот же день в «Красной газете» появилась статья С. Мокульского, который, в отличие от рецензента «Рабочего и театра», смотрел спектакли в обоих театрах и сравнил их, отметив, в частности, его выигрышное оформление в украинском: деревня изображается «необычайно просто и скупо, без дешевых прикрас вроде слащавых звездочек на небе или крикливых подсолнухов», что создает удобный фон для действия и позволяет сосредоточить внимание на сюжетных коллизиях. В спектакле «Жовтня» «достоинства пьесы Микитенко особенно ярко вскрываются при исполнении ее на украинском языке и украинскими актерами, которые, подобно автору, превосходно знают изображаемую среду. Персонажи «Диктатуры», как они показаны в «Жовтне», прежде всего, являются образами украинских рабочих, украинских бедняков, середняков и кулаков. В отличие от постановки Госдрамы, «Жовтень» дает «Диктатуру», как пьесу о перестраивающейся и расслаивающейся украинской деревне». Национальные особенности прослеживаются и в присущей украинским актерам юморе, сочной подаче текста, большой и захватывающей эмоциональности. При этом и в украинском театре массовые сцены «организованы довольно приблизительно», мизансцены лишены четкости и законченности, «режиссерская рука чувствуется мало». Но при всех недочетах, спектакль в украинском театре производит положительное впечатление, «захватывает своей простотой и искренностью, своей большой социальной зарядкой» [13].
Все рецензенты отмечали ансамблевость актерской игры, которая производила сильное впечатление. Выделялись исполнители ведущих ролей Лысенко (кулак Чирва), з. а. Коханенко и Гудзенко (бедняк Малоштан), з. а. Ф. Левицкий (кулак Пивень), Гайдабура (подкулачник Гусак), Лютик (рабочий Зубченко), з. а. Сидоренко (комсомолка Оксана). Странно, что никак не отмечен главный герой – рабочий-партиец Григорий Дударь, роль которого играли С. Ващук и В. Мова-Стецюр, но и такое умолчание говорит за себя.
До начала января 1931 г. почти все спектакли посещались в рамках организованных культпоходов. Ежедекадная афиша театра сопровождалась перечнем предприятий и организаций, которые посещали спектакль «Диктатура», а сами эти декады нумеровались: вторая декада культпоходов, третья и т. д., вплоть до восьмой. Если организация не могла оплатить весь спектакль, заключался договор на половину мест. Некоторые организации повторяли культпоходы для своих членов. Среди посетивших театр «Жовтень» в ноябре – декабре 1930 г. были сотрудники Балтийского завода, заводов «Электросила», «Вулкан», «Кооператор», «Экономайзер», «Красный гвоздильщик», «Электроаппарат», им. Казицкого, «Экспортлеса», фабрики им. Мюнценберга, военной школы, различных кооперативов, члены профессиональных союзов – строителей, водников, печатников, пищевиков, швейников, транспортников, связи, железнодорожников и др. Процент «организованного зрителя» достигал 85%, из них рабочих – 78% [см.: 23, оп. 1, д. 10, л. 13 об.].
Ясно, что культпоходы обеспечивали полные аншлаги в театре, но одновременно они требовали больших организационных и временных усилий и могли осуществляться достаточно эффективно на волне повышенного интереса к новому и необычному театру, но такой интерес не мог быть постоянным.
Второй постановкой театра «Жовтень» стала новая пьеса И. Микитенко «Кадры», рассказывающая о борьбе пролетарского студенчества за высшую школу в 1920 – 1923 гг. Эта пьеса имела успех на русской сцене – под названием «Светите, звезды!» она шла в Москве во Втором МХАТе и готовилась к постановке на русском языке в Ленинграде.
В оригинале же ее в «ударном порядке» выпустил режиссер Е. Коханенко в «Жовтне» в начале января 1931 г. (художник‑постановщик В. Шкляев, музыка Л. Энтелиса). В последнем номере журнала «Рабочий и театр» за 1930 год в рубрике «К ближайшим премьерам» была помещена беседа с режиссером-постановщиком, который подчеркнул жгучую актуальность пьесы: «Задача подготовки пролетарских специалистов стоит сейчас перед нами во всей своей широте и требует к себе внимания всей советской общественности, особенно после недавно прошедшего процесса «промпартии» [8][2]. Е. Коханенко рассказал также о концепции спектакля, в котором «режиссура ставила своей задачей – уход от индивидуализма и раздробления типажа … мы стремились типизировать отдельные персонажи, показать в каждом из них определенную группу студенчества и тот класс, представителем которого он является. Показ идейно-политического и культурного роста рабочее-крестьянской молодежи является органической частью нашего спектакля. Конечная цель – дать зрителю глубокую, эмоционально-революционную зарядку для борьбы за новые пролетарские кадры».
«Кадры» в украинском театре удостоились нескольких разноречивых рецензий в печати. Первой 9 января откликнулась «Красная газета». В. Г[олу]бов охарактеризовал пьесу И. Микитенко, с одной стороны, как нужное и интересное произведение о том, «как строится и растет советский ВУЗ», но, с другой – как устаревшую, поскольку она не учитывала «ряд сдвигов в вузовской действительности», происшедших после ее написания (ударничество, новые методы общественной и академической работы, производственный принцип обучения и др.). И форма пьесы в виде самостоятельных жанровых сценок, объединенных единой тематической линией, по мнению рецензента «несколько примитивно и упрощенно вскрывает тему». Но в противовес недостаткам – несомненные достоинства: «образный выразительный язык пьесы, мягкий юмор и убеждающая простота, замечательная обрисовка персонажей и яркая драматическая трактовка некоторых моментов». А вот о самом спектакле автор отзывается весьма критически, неожиданно назвав его «нисколько не характерным для украинского театра… в спектакле выхолощена национальная специфика, даже утерян колорит, имевшийся в пьесе. Это обычный спектакль нашего театра, переведенный на украинский язык». Ни для кого не нашлось у рецензента добрых слов. Работа режиссера Е. Коханенко – «слаба и неинтересна», он не сумел «на основе здорового оптимизма «Кадров» построить бодрый, заряжающий спектакль». Актерский состав «не преодолел творческой разнородности и эклектизма», исполнение ролей студентов мало убедительно и отмечено фальшью. А самому театру еще нужно завоевать «право на жизнь» отысканием и утверждением своего собственного, национального творческого лица» [2].
Неужели полная неудача? Но другие рецензии не подтверждают такой вывод, хотя и содержат критику спектакля и отнюдь не являются хвалебными. И. Городский в газете «Ленинградский студент» также отмечал «несоответствие пьесы сегодняшнему дню», она даже «притупляет несколько классовую бдительность зрителя и объективно уводит его от злободневных, насущественнейших проблем сегодняшней вузовской действительности», и театр не сумел критически осмыслить пьесу «с точки зрения третьего года пятилетки». Но при этом национальный колорит, национальные формы выдержаны во всех элементах спектакля – и в оформлении художника Шкляева, и в «действенной музыке» композитора Энтелиса, и в постановке режиссера Коханенко в целом. А вот единой творческой линии в игре актеров действительно нет, методы игры разношерстны, так как театр вынужден был формировать труппу «из имевшихся налицо сил». Значит, нужна «максимальная работа» с актерами, чтобы добиться создания единого по творческому методу ансамбля [4].
А.П. в журнале «Рабочий и театр», отмечая правильную установку и яркий материал пьесы, указывает на ее рыхлость, вялость, вследствие чего она рассыпалась на длинный ряд статических эпизодов – автор еще не овладел «творческим методом пролетарской драмы». И спектакль не преодолел этого недостатка драматургии, он был лишен единства, носил иллюстративный характер, отдельные персонажи превращались в застывшие схемы. Режиссерская работа Е. Коханенко была признана добросовестной и старательной, но с налетом некоторого «провинциального упрощенчества». Из актеров выделялись А. Гайдабура, Е. Сидоренко, С. Ващук, М. Терещенко. Безусловно положительно оценивалась работа художника-постановщика В. Шкляева, следовавшего традициям новаторского украинского театра «Березиль». В целом спектакль был признан скромным, но полезным, «ставя в обличьи украинского языка и бытовой специфики общие для всего Советского Союза проблемы борьбы за кадры, тему классовых битв в ВУЗе» [1].
В феврале 1931 г. театр «Жовтень» выпустил спектакль по поэме Т. Г. Шевченко «Гайдамаки» в инсценизации Леся Курбаса, постановщик Д. Ровинский. В массовых сценах спектакля участвовал вспомогательный состав театра – драмкружок Домпросвета. В спектакле было много музыки композиторов Лысенко, Глиэра, Стеценко, Пруслина. Потребовалось объяснение, почему театр, созданный для презентации современной украинской драматургии, обратился к произведению, написанному 90 лет назад и посвященному восстанию гайдамаков в XVIII веке. Постановка на историческом материале диктовалась двумя соображениями: познакомить ленинградских зрителей с подлинной украинской классикой в противовес ложным о ней представлениям, а также «дать революционный спектакль, отражающий классовую борьбу украинского населения». Развивая этот второй мотив, театр устроил у себя выставку МОПРа о современных событиях в Западной (польской) Украине, «как являющихся повторением фактов, положенных в основу пьесы Шевченко» [15, 1931, № 4, 11 февр., с. 21].
Эта идея обосновывалась в большой статье под названием «Изучим прошлое, возьмем настоящее – построим будущее. «Гайдамаки» в I-ом на территории Р.С.Ф.С.Р. Украинском Гостеатре «Жовтень», написанной зав. массовым сектором театра «Жовтень» Ф. Шаповал [см.: 23, оп. 1, д. 9, л. 25 – 29]. Большое место в статье занимает изложение исторических фактов о восстаниях на Правобережной Украине в XVIII веке, разъясняются непонятные ленинградскому зрителю термины (гайдамаки, гайдаматчина, колиивщина), кратко рассказано содержание «классики-истории» – поэмы Т. Г. Шевченко. Шевченко показал гайдамаков не как разбойников, а как борцов за свободу, но автор продолжает: «борцов за политическую власть пролетариата» (!), так как эти восстания были «семенами, из которых вырастала революционная борьба, гражданская война и пришли к диктатуре пролетариата». Статья Ф. Шаповал известна нам только в рукописи, поэтому трудно сказать, каким образом использовался этот текст, слишком прямолинейный даже для лобовой пропаганды, однако ясно, что он был подготовлен для разъяснительной работы среди зрителей, незнакомых с историей Украины и поэмой Т. Г. Шевченко.
В. Голубов в «Красной газете», уже традиционно первой откликнувшейся на новую постановку «Жовтня», объясняет выбор театра и как бы дает разрешение на него: «Ознакомление рабочего зрителя с лучшими творениями национального искусства и его классического наследия – одна из задач существующего в Ленинграде Украинского театра. И в цепи пьес современного репертуара, трактующих злободневную тематику текущего дня, допустимы отдельные звенья, представляющие собой наиболее ценное, наиболее прогрессивное и революционное из украинской драматургии прошлого. Но это прошлое должно выявляться в разрезе нашего, классового к нему отношения» [курсив мой – Т.С.]. Между тем вот этого «правильного» отношения рецензент в спектакле не нашел, так как «переделка пьесы» Л. Курбасом свелась к ее «формальной перепланировке» и намекам на сходство «шевченковского содержания с нынешней действительностью» – Польшу 200-летней давности (события гайдаматчины происходили в XVIII в.) с современной Польшей, символически представленной в спектакле женщиной с фашистским значком на груди. Такое отождествление «в какой-то единой классовой зависимости и причинности» недопустимо [3]. Эту же точку зрения разделял и Н. Ситников в журнале «Рабочий и театр»: борьба повстанцев‑гайдамаков на Правобережной Украине в XVIII в. носила характер «узко-национального и, конечно, классово не определившегося освободительного движения», а потому показывать гайдамаков как подлинных борцов за свободу, да еще проводить параллель между ними и крестьянскими волнениями в Польше в 30-е гг. XX в., смешивать эти явления «недопустимо и политически вредно» [16, с. 17].
Оба рецензента предъявляли театру серьезные претензии и с художественной точки зрения, новаторские элементы инсценизации «украинского Мейерхольда» Леся Курбаса (введение хора на манер греческих трагедий, являющегося посредником между сценой и залом, «привкус оголенного эстетизма», «внешняя стилизованность исполнения, основывающегося на возвышенном и ложном пафосе» и т. п.) подвергались критике. Единственным достоинством постановки В. Голубов назвал музыку, напряженную и выразительную, которая только и «оставляет впечатление от утомительного и мало интересного спектакля». А. Н. Ситников охарактеризовал спектакль в целом как «прорыв» (это определение имело в описываемый период значение неудачи, провала).
И профессиональный театральный критик В. Голубов, и выросший из рабкоров Н. Ситников, в заключение довольно резко отчитали театр. «Шатания от современного репертуара («Диктатура», «Кадры»), использованного без намека на специфику национальной формы к стилизованной «национальной поэме» низкой общественной значимости – недостаточная рекомендация для подлинно советского национального театра» (В. Голубов). «Использование классической драматургии современным театром может быть допустимо только в случае, если из драматического архива извлекаются лучшие образцы, заключающие в себе хоть в какой-то мере родственные революционным дням элементы, при соответствующей обработке которых можно создать спектакль с классово-полезной направленностью» (Н. Ситников).
Следующая работа театра, казалось, вполне соответствовала этим наставлениям. Вместо анонсированной осенью пьесы Л. Первомайского «Неизвестные солдаты», которую по условиям договора с Украинским Товариществом драматургов, композиторов и сценаристов театр должен был поставить не позднее 1 января 1931 г., но из-за затянувшегося подготовительного периода поставить не успел [см.: 23, оп. 1, д. 9, л. 7 – 8], в феврале 1931 г. было приобретено право постановки новой пьесы Остапа Вишни «Запорожец за Дунаем» «из жизни украинских эмигрантов за границей». Премьера спектакля, названного в афишах музыкальным гротеском, в постановке Д. Ровинского, на классическую музыку С. Гулака‑Артемовского в новой редакции, инструментовке и «с дописанными номерами» композитора Л. Энтелиса, состоялась в апреле 1931 г. [см.: 15, 1931, № 4, 11 февр., с. 21; № 10, 11 апр.; афиши]. Знаменитая украинская опера послужила канвой для создания остроумного, «насыщенного злободневным содержанием сатирического памфлета». Сюжет пьесы: в Марокко происходит «мирная» международная конференция с участием беглых украинских министров и глав некоторых европейских государств (иронически названных Королёк I, Пиль-Цуцкий, Пан-Каре) с целью организации антисоветской интервенции, и все события происходят на фоне повседневной жизни украинской эмиграции, часть которой живет играемым изо дня в день «Запорожцем за Дунаем». Для лучшего понимания содержания спектакля русским зрителем и более полного осмысления происходящего введен конферанс в виде полемики между двумя актерами.
Казалось бы, социально-политические задачи театром решаются, да еще и в интересной форме, но бдительный Николай Ситников начеку: «От злободневности спектакля до его политической полновесности так же далеко, как далек исторический «Запорожец за Дунаем» от текста Остапа Вишни» – лирические герои выглядят безобидными мечтателями, стремящимися на родину, международные хищники только смешны, конферанс не придает политического заострения, а сводится к «полемике с мюзик-холлом». Однако в спектакле были моменты, которые рецензент, уже несколько лет боровшийся с «псевдоукраинским» «гопачногорилочным» искусством, безусловно приветствует – в спектакле «через пародийно-гротесковый показ этого старья вскрывается вся его архаическая ложность» [23, оп. 1, д. 9, л. 17]. (Напомним, что в таких экспрессивных выражениях рецензент характеризовал жемчужину украинской сцены – оперу С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», а не свободную переработку О. Вишни. В черновом варианте статьи говорится также о «романтической канве престарелой оперы», которая «содержала в себе сгусток великодержавного шовинизма»). Работа режиссера была названа «вполне посредственной», а вот актерский ансамбль блеснул, особенно Е. Коханенко, М. Романовский, Е. Никитченко. Выделялось также простое и остроумное решение спектакля художниками В. Шкляевым и П. Рогожинским. Но все же общий вывод рецензента был неутешительным: спектакль «не является в какой-либо мере образцом украинской театральной культуры» [17, с. 17].
С 7 ноября 1930 г. по 1 мая 1931 г. в театре «Жовтень» пьеса «Диктатура» прошла 55 раз (до конца сезона – более 70), «Кадры» – 33 раза, «Гайдамаки» – 35 раз, «Запорожец за Дунаем» – 20 раз [см.: 23, оп. 1, д. 3, л. 65; д. 9, л. 24].
Пятая и последняя (июнь 1931 г.) в первом сезоне театра «Жовтень» премьера – спектакль по первой пьесе белорусского пролетарского драматурга Г. Кобеца «Гута» («Стеклозавод»). Автор, бывший рабочий стеклозавода, писал об известном ему производстве и знакомой социальной среде, что позволяло точно и ярко нарисовать образы отдельных персонажей. Но пьеса была написана в 1929 г. и к моменту постановки, по мнению критики, уже «немного устарела» (!) – ведь «развернутое наступление на враждебный пролетариату класс быстро меняет соотношение и расстановку классовых сил внутри страны», и показанные в пьесе мастера-«кулаки» уже не типичны. Это и было названо все тем же Н. Ситниковым основным недостатком пьесы и спектакля в постановке Е. Коханенко, хотя и оформление (художник А. Иванов), и музыка (композитор Ю. Мейтус) были названы лишенными всякого своеобразия и довольно посредственными. Положительно была оценена игра актеров Ф. Левицкого, Д. Гайдамаки, а также «старой гвардии» украинских ленинградских театров А. Самарского и И. Рожко. В целом спектакль был признан «на уровне лучших постановок» «Жовтня», но не может служить ему причиной для творческого удовлетворения» [14, с. 13].
Для преодоления определенного языкового барьера между сценой и зрительным залом постановки театра «Жовтень» анонсировались с изложением краткого содержания пьесы (напр., «Диктатура», «Гута»). Либретто к «Запорожцу за Дунаем» в обработке О. Вишни было напечатано в типографии «Красной газеты» тиражом 3 тыс. экз. [см.: 23, оп. 1, д. 9, л. 14].
Уже в свой первый сезон украинский театр стал активным участником культурно-просветительской работы среди разных слоев населения Ленинграда – рабочих, студентов, красноармейцев и краснофлотцев. Из состава труппы были выдвинуты уполномоченные по связям с предприятиями, учреждениями, вузами, воинскими частями. Актер и режиссер-лаборант А. Гайдабура был направлен руководителем драматического кружка (кружка малых форм) в Украинский Дом просвещения. Передвижная бригада артистов театра выступала в обеденный перерыв прямо в цехах предприятий [см.: 23, д. 10, л. 1 – 3, 10]. В театре работал Художественно-политический Совет, состоящий преимущественно из руководства «Жовтня», представителей Украинского Дома просвещения и Землячества пролетарских студентов Украины [см.: 23, д. 4, л. 7 – 8 об.].
Выразительный пример главенства классово-политической составляющей в деятельности театра «Жовтень» дает договор о его сотрудничестве с крупным ленинградским предприятием. 5 января 1931 г. в театре состоялось торжественное заседание «по случаю принятия над театром шефства Механическим заводом № 7» [15, 1930, № 70 – 72, 31 дек., с. 17]. В таком сотрудничестве театр был «ведомым», а ведущей силой этого взаимодействия, в духе времени, считались «трудящиеся города Ленина». Сам договор «О принятии пролетарского идейно-политического шефства Механического завода № 7 над государственным Украинским театром «Жовтень» («Октябрь») в г. Ленинграде» был подписан позже, в октябре 1931 г. Текст договора содержит обоснование необходимости такого шефства как политического дела огромной важности, могучего средства проведения в жизнь коммунистического лозунга «Искусство в массы». Рабочее шефство позволяет театру приблизить «свою продукцию» к рабочему зрителю, «искусство делается подлинно пролетарским, театр мобилизует волю, энтузиазм рабочих масс на борьбу за промфинплан, пятилетку, за успешное окончание строительства фундамента социализма». А рабочее шефство над Украинским театром – это еще более важное политическое дело, так как украинский театр на территории РСФСР, в Ленинграде – мощный фактор интернационального воспитания, оружие борьбы «со всеми и всякими искривлениями национальной политики партии», театр, пропагандирующий украинскую культуру, национальную по форме и социалистическую по содержанию [см.: 23, оп. 1, д. 10, л. 4].
Практическая сторона сотрудничества завода и театра частично была совершенно логичной: устраивать «вечера спайки» двух коллективов, проводить культпоходы в театр с последующим обсуждением спектаклей, выделять заводским ударникам бесплатные абонементы, а ударной бригаде театра выступать перед рабочими на заводе, участвовать в политических кампаниях, разъяснять задачи культурной революции, в том числе театрального искусства, помогать в ликвидации неграмотности, вовлекать рабочих-украинцев в работу землячества, организовать для них кружки на родном языке.
Но все же основной посыл документа был очень технократическим: завод и театр рассматривались просто как два предприятия, которые заключают между собой договор о соцсоревновании со следующими пунктами: успешное выполнение своих промфинпланов, качественный выпуск продукции, активная борьба с прогулами, опозданиями, небрежным отношением к своим обязанностям, снижение себестоимости и процента брака, взаимообследование обоих предприятий с созывом совместных собраний.
Ярко выражена в договоре и идея гегемонии рабочего класса над интеллигенцией: завод брал на себя обязательства делегировать двух своих представителей в Художественно-политический совет театра «для участия и руководства таковым», а также направить лучших ударников «в качестве соц. совместителей на ответственные, руководящие должности (директор, глав-администратор, заведующий Художественно-политическим советом и т. д.)» и осуществлять «внутри воспитательную работу» среди актеров и всех работников театра. Коллектив же театра обязался «в случае производственного прорыва на заводе» полностью переключить свою работу на ликвидацию этого прорыва [см.: 23, д. 10, л. 5 – 6].
Этот документ, характерный для своей эпохи, позволяет ощутить ее атмосферу, одновременно суровую и наивную, услышать голоса людей – социальных оптимистов, уверенных в своей правоте и существовании простых классовых решений для всех мировых проблем.
15 июня 1931 г. закончился первый сезон театра «Жовтень». Несмотря на творческие успехи театра, окончание сезона оказалось мало оптимистичным. Выплата зарплаты постоянно задерживалась. Театр не был включен в план летних гастролей, составленный сектором искусств НКП, в связи с чем вынужден был полностью прервать работу до осени 1931 г., причем оплата в размере 50%, по промфинплану театра, полагалась членам труппы только за один месяц [см.: 23, д. 10, л. 17]. В это время в штате театра числилось 110 чел., из них 82 служащих (в т. ч. 30 женщин), то есть творческий состав, и 28 рабочих (в т. ч. 8 женщин) [см.: 23, д. 4, л. 95 – 95 об.]. Общее собрание труппы 23 июля 1931 г. горячо обсуждало ситуацию и почти единогласно (при одном голосе против) голосовало за другую схему расчетов, а именно: с 15 июня по 25 июля и с 25 августа по 15 сентября театр считать на консервации и выплатить сотрудникам 50% зарплаты, с 25 июля по 25 августа – оплаченный (100%) отпуск. Кроме того, администрации предлагалось до 25 июля подписать с работниками тарифное соглашение на срок до 1 января 1932 г. Присутствовавший на собрании заместитель председателя Рабиса заверил, что это решение будет поддержано президиумом союза [см.: 23, д. 16, л. 31 – 32].
Однако проблемы театра «Жовтень» были не только финансовыми.
Труппа театра, составленная из актеров разных творческих школ и разного профессионального уровня, не была сплоченным творческим коллективом. Бытовая же сторона жизни иногородних актеров была практически неприемлемой: и в 1931 году «нет до сего времени жилищ, состав театра живет в уборных» [23, д. 10, л. 13 об.]. Несмотря на неподдельный энтузиазм, с которым большинство актеров принялись творить дело национального театра в русскоязычной среде, долго выдерживать такие условия, да еще при хронической задержке зарплаты, могли и хотели не все, в труппе начались трения, подсиживания, дрязги и т. п. Уже в декабре 1930 г. совещание актива театра «Жовтень» рассмотрело вопрос «Про организационные недочеты среди состава театра». Докладчик, заместитель директора театра Ф. Шаповал перечислила имевшие место «болезненные явления»: «вместо здоровых товарищеских отношений – где у кого – ненависть, что не должно быть в нашей семье», «есть люди, которые ведут вредительскую работу», не все работают над собой, чтобы «отвечать современным советским условиям, иначе человек может навсегда сойти со сцены», кое-кто придерживается устаревших методов, некоторым старым работникам следует более строго относиться к своей работе и воспитывать молодежь. Выступления участников совещания конкретизировали проблему. Так, из протокола следует, что молодой актер Василий Щеголев (задействованный в спектакле «Диктатура» в роли секретаря райпарткома Величко) бросил театр и уехал на Украину, и называются причины этого поступка: ему «не дали соответствующей работы, не удовлетворили его ролью, был голодный [курсив мой – Т.С.], вот почему выехал». Режиссер-лаборант Гудзенко «высмеивает Коханенко и когда есть недостатки в работе то Гудзенко рад». В труппе есть «закулисное травление один одного среди актеров». Но основное внимание актива было сосредоточено на «разлагающей деятельности» актера А. Самарского, начавшего свою ленинградскую карьеру еще в театре И. Я. Юхименко в 1927 г. Выяснилось, что именно Самарский способствовал бегству Щеголева и «взял в обработку» еще двух актеров, что он спаивает заслуженного артиста Ф. В. Левицкого, а потом критикует его. Выступавшие называли Самарского «врагом театра», неучем, который «переоценивает себя», стремится стать режиссером и за два месяца работы не сказал ни одного хорошего слова о театре, «а все только плохое». Характерны отзывы Самарского о репертуаре театра: «Диктатура» – это безуспешная пьеса, «Кадры» не будут пользоваться успехом, необходимо ставить здесь «Наталку Полтавку» и «Цыганку Азу». Совещание постановило «давать решительный отпор тем, которые вредят нашему строительству культурной работы – Самарского необходимо снять» [23, д. 10, л. 23 – 25].
Но главной проблемой театра «Жовтень» был все же так и не определенный до конца статус и характер работы – в качестве стационарного или передвижного. Поразительно, что уже в декабре 1930 г. (а театр дал первый спектакль 7 ноября!) на театральном совещании в Ленинграде председатель Главискусства Ф. Кон заявил, что создание украинского театра в городе, где проживает не более 17 тысяч украинцев (на самом деле их насчитывалось более 30 тысяч), вызывает немало возражений, «место такого театра – на Украине, откуда он не лишен права периодически выезжать в разные пункты РСФСР для обслуживания там разбросанного украинского населения» [15, 1930, № 68 – 69, 21 дек., с. 13]. На это явно политически незрелое заявление по свежим следам откликнулся журнал «Рабочий и театр». Критик А.П. справедливо отмечал, что украинский театр в Ленинграде призван вовсе не только обслуживать ограниченную украинскую колонию, хотя она и достигает нескольких десятков тысяч человек, но должен быть живым проводником идеи культурного сближения союзных республик и народов СССР, постоянным культурным «полпредством» украинского пролетариата в крупном индустриальном центре [см.: 15, 1931, № 2, 21 янв., с. 11].
23 июня 1931 г. в Москве состоялось заседание Президиума не так давно образованного Управления по делам национальных театров (нацментеатров) Наркомпроса по вопросу обслуживания украинского населения на территории РСФСР, докладчик Симолин. Принятое постановление содержало пункты о создании нескольких украинских театров в разных регионах, в том числе 4-х стационарных (двух краевых и двух областных) и шести передвижных, а также поддержку театра-студии и театра украинской муздрамы в Москве и театра «Жовтень» в Ленинграде. При этом «Жовтень» выделялся как единственный театр «для больших городских площадок, способных поднять бюджет до 10 – 13 тыс.», а его работа в 1932 г. должна была проходить на пяти площадках: 4 мес. – в Ленинграде, 1 мес. – в Москве, по 2 мес. – в Воронеже, Новороссийске и Ростове-на-Дону [см.: 23, оп. 1, д. 3, л. 1 – 3].
Представитель Управления национальными театрами Симолин выступил с докладом о перспективах «Жовтня» и на общем собрании труппы театра 23 июля 1931 г. Он изложил концепцию управления, принятую месяцем ранее, но некоторые тезисы его выступления звучали весьма странным образом: «Театр «Жовтень» – театр государственный, а государство не знает, чей он». Далее докладчик сообщил, что у театра в Ленинграде теперь есть «непосредственный хозяин» – заместитель заведующего Ленискусством Горский, но «Ленинград театра только для Ленинграда не признает», «театр «Жовтень» Ленинграду, как таковому, не нужен», но необходим как театр РСФСР [курсив мой – Т.С.] Пребывание театра именно в Ленинграде связано с наличием помещения, возможностью «культивирования» художественного состава и повышения квалификации, кроме того – это «марка пребывания в культурном центре». Наряду с другими создающимися украинскими театрами, «Жовтень» должен обслуживать значительное украинское население РСФСР, но «ни в коем случае не презентовать украинскую культуру». Все театры в 1932 г. будут переведены на хозрасчет, однако первый украинский театр «Жовтень» будет «дотацирован приблизительно 70 – 75 – 80 тыс. руб.», но нужно «протянуть театр» до 1932 г. Внимание к театру вызвано тем, что «театр очень хороший – по общей оценке, добротный своей продукцией, театр, выдержавший четкую политическую линию, по праву названный гостеатром». Практическая деятельность театра «Жовтень» должна проходить в смешанном режиме – 4 месяца в Ленинграде, а остальное время – в длительных гастрольных поездках по плану Управления [см.: 23, д. 16, л. 27 – 29].
Таким образом, театр мог продолжать работу, хотя и с изменением ее режима. Вероятно, выполнить ранее намеченный производственный план 1931 г. – 219 спектаклей в Ленинграде, с общим количеством зрителей 138212 чел. [см.: 23, д. 10, л. 13 об.] – уже не представлялось возможным. В сентябре 1931 г. на совещании в Ленинградском Областном Совете профессиональных союзов (ЛОСПС) по вопросу о работе нацментеатров было принято официальное решение о необходимости «сократить пребывание театра в Ленинграде в сезоне 1932 г. до 1 марта 1932 г.». При этом ЛОСПС брал на себя «оказание полного содействия в проведении через союзы 30 культпоходов за время с ноябрь 1931 г. по февраль 1932 г.» [23, д. 11, л. 4]. Секретариат ЛОСПС 26 сентября утвердил ориентировочную разверстку на эти культпоходы, правда, с несколько иными датами – с 1 октября 1931 г. по 14 апреля 1932 г., но главное – всего на 25 спектаклей [см.: 23, д. 11, л. 10]. По сравнению с первым сезоном театра «Жовтень», когда на четыре спектакля («Диктатура», «Кадры», «Гайдамаки» и «Запорожец за Дунаем») было организовано 99 культпоходов [Подсчитано по: 23, оп. 1, д. 11, л. 3 – 3 об.], следует констатировать явное снижение интереса к украинскому театру.
В конце сентября 1931 г. «Жовтень» анонсировал ориентировочный репертуар на сезон 1931 – 1932 г.: «Дело чести» И. Микитенко, «Матросы из Катарро» Ф. Вольфа, «Ровесники пятилетки» Л. Первомайского, «Штурм» А. Корнейчука, «Патетическая соната» Н. Кулиша, «Вячеслав» О. Вишни, «Яблоневый полон» И. Днепровского, «Завоеватели» Ю. Яновского, а также прошлогодние постановки «Диктатура», «Гута», «Запорожец за Дунаем» [см.: 15, 1931, № 25, 30 сент., афиши]. Сезон должен был начаться премьерой – пьесой «Дело чести» И. Микитенко.
В 1930 – 1931 гг. спектакли по пьесам «Патетическая соната» и «Дело чести» ставил в Ленинграде на русском языке Большой Драматический театр. По поводу постановки последней возник конфликт между театрами – украинским и БДТ. В апреле 1931 г. дирекция БДТ заключила постановочный договор с Всероссийским обществом драматургов и композиторов (Всеросскомдрам) на монопольное право публичного исполнения в Ленинграде неизданного драматического произведения И. Микитенко в переводе Зенкевича «Дело чести», с запретом автору до 1 мая 1932 г. предоставлять пьесу другим театрам. Сам И. Микитенко телеграммой от 7 октября подтвердил обоснованность претензий БДТ: «Никакого права на постановку «Дело чести» в Ленинграде другим театрам кроме Большого Драматического я не давал примите меры на месте». Таким образом, постановка этой пьесы в театре «Жовтень» осенью 1931 г. была незаконной, и дирекция БДТ потребовала снять ее с репертуара украинского театра [см.: 23, оп. 1, д. 9, л. 2 – 2 об.]. Ленинградское отделение Всеросскомдрама и Леноблсовет по делам искусства и литературы поддержали это требование, а последний еще предписал «Жовтню» представить объяснение, на каком основании пьесу «Дело чести» включили в репертуар [см.: 23, л. 32, 64].
Узнав о принятии этой пьесы к постановке в БДТ, украинский театр обратился к наркому просвещения Украины А. М. Скрыпнику с запросом, имеет ли право «Жовтень» поставить ее в оригинале, то есть на украинском языке, и получил положительный ответ. Кроме того, вопрос этот был согласован и с инспектором по национальным театрам Ленинграда Горским, причем была достигнута договоренность о том, что театр «Жовтень» откроет сезон пьесой «Дело чести», а завершит – «Патетической сонатой», в то время как БДТ, в свою очередь, сначала поставит «Патетическую сонату», а затем в середине сезона даст «Дело чести». На этом основании труппа усиленно готовила постановку пьесы «Дело чести» к годовщине театра – к 7 ноября 1931 г. Таким образом, требование «воздержаться от постановки до окончательного разрешения вопроса о монопольном праве на постановку этой пьесы» ставило театр «Жовтень» в трудное положение – театр нес материальные потери при весьма сложном финансовом положении, труппа испытывала творческое разочарование и вынуждена была в спешном порядке готовить новую пьесу, но главное – подрывалось доверие к украинскому театру, которому-де сами украинские драматурги не хотят давать свои пьесы [см.: 23, л. 23 – 24 об., 69].
Стоит вспомнить, что осенью 1930 г. пьесу И. Микитенко «Диктатура» поставили сразу два ленинградских театра – Государственный театр драмы (бывш. Александринский) и украинский театр «Жовтень», и это не расценивалось как нарушение прав одного из них. Однако одновременно идущие спектакли позволяли сравнивать обе постановки, и это сравнение не всегда было в пользу Госдрамы. Но все же в случае с «Делом чести», видимо, речь скорее должна идти не о творческом соревновании, а о борьбе за «организованного зрителя», на которого рассчитывали оба театра при постановке социальной драмы – ведь на «Диктатуру» в украинском театре было не менее 49 культпоходов [по матер.: 23, оп. 1, д. 11, л. 3], то есть заранее оплаченных спектаклей.
Еще 28 октября 1931 г. в репертуарном справочнике пьеса «Дело чести» анонсировалась на открытие нового сезона в театре «Жовтень», но открытие сезона пришлось отодвинуть – вместо 7 ноября он начался 1 декабря, а пьесу о трудовом героизме шахтеров Донбасса (недаром ее первое название – «Вугiлля» – «Уголь») заменить на комедию «Вячеслав» О. Вишни в постановке А. Смирнова и А. Искандер [см.: 15, 1931, № 28, 28 окт., с. 16; № 32 – 33, 7 дек.; афиши]. Рецензий на эту постановку, увы, не обнаружено.
Второй сезон театр «Жовтень» встретил с большими изменениями в составе труппы, в которой теперь было всего 33 актера, появились и новые люди. Список актеров включал Б. Борея, С. Ващука, С. Гудзенко, Н. Иноземцева, А. Каневского, М. М. Романовского, Н. Братерского, Е. Ивахненко, Н. Кабардина, А. Левицкого (младшего), Боярского, Гайдамаку, Качура, Липовецкого, Осадчего, Славинского, Святенко, Франко. Работали актрисы з. а. Е. Сидоренко, Н. Арская, Н. Будак, Е. Гриневич, Ф. Дузь, Е. Ковтун, Н. Лебедева, М. Лютик, М. Маркова, Г. Искра, Боярская, Грановская, Ковальчук, Шостаковская, Ярманцевич [см.: 23, оп. 1, д. 15, л. 2].
Во вспомогательный состав труппы, кроме участников драмкружка Украинского Домпросвета, вошли учащиеся мастерской при театре – рассчитывая на длительную стабильную работу в Ленинграде, «Жовтень» готовил для себя молодое пополнение.
В сентябрьских анонсах главным режиссером театра «Жовтень» по-прежнему назван Д. Ровинский [см.: 15, 1931, № 25, 30 сент.; афиши], но в списке сотрудников на сезон 1931 – 1932 гг. его фамилия отсутствует – 14 ноября 1931 г. он был арестован.[3]
И все же казалось, что у театра «Жовтень» впереди достаточно благоприятная перспектива: осенью 1931 г. он – единственный в РСФСР государственный украинский драматический театр, активно работал, с энтузиазмом выполняя социальный заказ власти и пролетарского зрителя – «внедрение в национальной форме задач соцстроительства и интернационального воспитания» [23, оп. 1, д. 4, л. 95 об.], решительно порвал с осуждаемой традицией «малороссийщины», имел успех не только среди украинской диаспоры, но и среди широких масс населения города, наконец, получил признание государственных структур.
Но судьба театра «Жовтень» оказалась недолговечной – в конце 1931 г. он был неожиданно закрыт по финансовым соображениям по настоянию того же Главискусства Наркомпроса РСФСР, которое его открывало. Председатель драматической секции Главреперткома Наркомпроса УССР И. Фалькевич в своей обстоятельной статье «Кончить неразбериху с Украинским театром» в журнале «Рабочий и театр» в январе 1931 г. раскрывал безрадостную финансовую подоплеку деятельности ленинградского украинского театра: несмотря на обязательства Главискусства НКП РСФСР поддерживать театр материально, он получил от этой организации всего 7 тыс. рублей еще в 1929 году «на обзаведение» и с тех пор больше ни копейки, а самое главное – театр «Жовтень» не включен в бюджет Наркомпроса, то есть остался совсем без средств. А ведь ему пришлось взять в Коммунальном банке Ленинграда кредит на 25 тыс. рублей сроком на год для ремонта, с обязательством покрыть этот долг своей кассой, чего он не в силах был сделать, так как за неуплату налогов на его кассу еще 16 декабря 1930 г. был наложен арест. Между тем единственная помощь, полученная к тому времени театром «Жовтень» – это 15 тыс. рублей от НКП УССР, хотя содержание государственного театра за пределами Украины целиком относилось на счет республики пребывания [см.: 21, 1931, № 2, 21 янв., с. 10].
Бюджет 1931 года также планировался дефицитным: приход 251 тыс. 143 руб. (в том числе 25 тыс. 700 руб. от Наркомпроса РСФСР, 176 тыс. 850 руб. – сборы со спектаклей), расход 314 тыс. 180 руб., дефицит – 93 тыс. руб. [см.: 23, оп. 1, д. 10, л. 14 об. – 17 об.; д. 4, л. 90].
Созданию дефицита в некоторой степени способствовала политика театра «Жовтень», ориентированная на «обслуживание только организованного зрителя, для выполнения чего старается всю свою продукцию продавать целевыми спектаклями». Между тем средняя стоимость одного целевого спектакля (преимущественно культпоход) и валовой сбор с него были значительно ниже, чем «общегражданского». Цена билета при коллективном культпоходе была на 65% ниже общекассовой. При этом в производственный план на 1931 год театр закладывал показатель «организованного зрителя» 85% [см.: 23, д. 10, л. 13 об., 14 об., 15 об.]. Таким образом, без существенных дотаций украинский театр в Ленинграде существовать не мог.
23 ноября 1931 г. Постоянное совещание наркома просвещения и его заместителей приняло постановление ликвидировать театр «Жовтень» как стационарный украинский театр в Ленинграде. Поражает, что в это же самое время театр открывал свой второй сезон! Но уже 9 декабря была создана ликвидационная комиссия Наркомпроса в составе: председатель Х. Ф. Керве (от Главискусства), секретарь Данилов, члены Пушечников (директор театра) и Зысин (от Ленискусства и Ленинградского областного союза Рабис), бухгалтер и счетовод [см.: 23, д. 18, л. 11, 15, 17]. В период с 10 по 15 декабря 1931 г. были полностью рассчитаны 77 сотрудников театра, в том числе все актеры, с выдачей двухнедельного пособия [см.: 23, д. 18, л. 7]. Кроме того, местком театра настаивал также на оплате проезда и провоза багажа на Украину, выплате компенсации за неиспользованный отпуск (8 дней из расчета проработанных в новом сезоне 4 мес.) и на обязательной выплате 50% зарплаты за период вынужденного прогула летом 1931 г. [см.: 23, д. 16, л. 25]. Судя по многочисленным отказам, задолженность была выплачена далеко не всем сотрудникам.
Вопрос о судьбе актеров ликвидированного театра оказался сложным. Трудно вообразить, как эти люди восприняли перемену своей участи, скоропалительно решенную начальством. Сектор искусств Наркомпроса РСФСР 21 декабря в качестве варианта предложил организовать в Ленинграде передвижную украинскую труппу. Решение этого вопроса было передано на усмотрение Ленинградского областного Управления государственных передвижных театров (ЛОУГПТ), но ответ оказался отрицательным. 30 декабря 1931 г. Ликвидком сообщал в Главискусство: «Актерские кадры Украинского театра Жовтень в Ленинграде вследствие отказа УГПТ организовать передвижной Украинский театр, по линии искусства остаются не использованными, на Украину никто не выехал и начинают устраиваться на работу не по своей специальности» [23, д. 18, л. 6 – 7]. В действительности небольшая часть актеров в декабре все же вернулись на Украину, а два актера Ващук и Новицкий – оказались арестованными (причина ареста не указана) [см.: 23, д. 18, л. 2].
25 декабря 1931 г. Ленинградский областной суд признал театр «Жовтень» несостоятельным должником с задолженностью по зарплате и разным учреждениям в сумме 113,7 тыс. руб., при том, что ценностей для покрытия задолженности имелось всего на 5 тыс. руб. В связи с этим суд передал окончательную ликвидацию театра Объединенному Судликвидкому, с предложением закончить ликвидацию в трехнедельный срок. Ответственным представителем Судликвидкома по делам театра «Жовтень» назначался И. С. Чудновский [см.: 23, д. 19, л. 20; д. 18, л. 1]. По решению Судликвидкома от 6 января 1932 г. был уволен директор театра «Жовтень» Пушечников, а помещение театра было передано в полное распоряжение дирекции ЛОУГПТ. Все дела по передаче помещения и денежным расчетам между дирекцией Гостеатров и ЛОУГПТ были завершены к 1 февраля, а переписка по претензиям сотрудников бывшего театра «Жовтень – 14 марта 1932 г.
Так быстро и буднично оказалась перевернута последняя страница истории профессионального украинского театра в Ленинграде. Вместо театра «Жовтень» открылся новый Государственный Украинский театр РСФСР в Москве (на базе объединения Украинского театра муздрамы и Украинской театральной студии). Ранее, в 1930 г., открытие Московского Государственного Украинского театра планировалось в дополнение к ленинградскому «Жовтню», но затем содержание двух подобных театров было сочтено нецелесообразным и крайне обременительным для бюджета НКП РСФСР, а расположение театра в столице, где были сосредоточены и другие национальные государственные театры (еврейский ГОСЕТ, латышский «Скатувэ», цыганский «Ромэн», татарский театр), – более рациональным и представительным. Государственный Украинский театр РСФСР в Москве работал тоже недолго – в 1932 – 1934 гг.
В Ленинграде театральную традицию украинской диаспоры продолжил драмкружок при Украинском Домпросвете (руководитель – «непотопляемый» А. Самарский, бывший актер театра «Жовтень»), участники которого получили некоторый опыт настоящей профессиональной сцены в качестве вспомогательного состава труппы государственного театра. Однако самостоятельный кружок ни в коей мере не мог заменить такой культурный очаг, как постоянный профессиональный театр, да и существование самого драмкружка закончилось довольно скоро вместе с закрытием Украинского ДПР в 1935 г.
С закрытием театра «Жовтень» Ленинград лишился сильного национального художественного коллектива, вносившего своеобразную ноту в культурную жизнь города. Однако классово-политизированный подход, принципиальное неприятие достижений старого украинского театра, попытка начать «с чистого листа», отвергая опыт прежних ленинградских украинских трупп, – все эти обстоятельства осложняли творческую судьбу театра «Жовтень». Не стал ему «охранной грамотой» и государственный статус – административным решением он был закрыт, не успев за два неполных сезона раскрыть все свои потенциальные возможности. Это тем более прискорбно, что театр и зритель не были разделены серьезным языковым барьером, что позволяло, в отличие от других ленинградских национальных театров, обращаться к весьма многочисленной аудитории.
В то же время недостаточно обоснованной была сама идея стационарного украинского (как и других национальных) театра в русскоязычном мегаполисе. И все же прерванная на взлете судьба ленинградского украинского театра в значительной мере обеднила культуру города.
Список литературы
1. А. П. «Кадры» в Украинском театре // Рабочий и театр. – 1931. – № 2. – 21 января. – 24 с.
2. Г-бов В. «Кадры». Премьера в театре «Жовтень» // Красная газета. – 1931. – 9 янв. Веч. вып.
3. Голубов В. «Гайдамаки» // Красная газета. – 1931. – 18 февр.
4. Городский Иг. «Кадры». Украинский театр «Жовтень» // Ленинградский студент. – 1931. – 21 янв.
5. Горохов Г. «Диктатура» в Украинском // Рабочий и театр. – 1930. – № 62–63. – 20 нояб. – 24 с.
6. Жизнь искусства. – 1929. – № 14. – 1 апр.
7. Iрiй Андрiй. РСФСР будет иметь свой Украинский театр // Рабочий и театр. – 1930. – № 23. – 26 апр. – 24 с.
8. «Кадры» в театре «Жовтень» // Рабочий и театр. – 1930. – № 70–72. – 31 дек. – 24 с.
9. Котвицкий А. «Диктатура» в Украинском // Рабочий и театр. – 1930. – № 64–65. – 24 с.
10. Ленинградские театры. Репертуарно-программный справочник. – 1930.
11. Ленинградская правда. – 1929. – 19 и 22 февр.
12. Красная газета. – 1929. – 23 февр. – утр. и веч. вып.
13. Мокульский С. «Диктатура» в театре «Жовтень» // Красная газета – 1930. – 20 нояб. – веч. вып.
14. Н. С. «Гута» // Рабочий и театр – 1931. – № 19. – 30 июня. – 24 с.
15. Рабочий и театр – 1929 – 1931 гг.
16. С-в Николай. «Гайдамаки» // Рабочий и театр – 1931. – № 6. – 1 марта. – 24 с.
17. С-в Николай. «Запорожец за Дунаем» – в «Жовтене» // Рабочий и театр. – 1931. – № 12. – 1 мая. – 24 с.
18. Спутник по ленинградским театрам. – 1931. [Б.м.]; [Б.г.].
19. Тасин Л. Украинский театр в Ленинграде // Красная газета. – 1930. – 9 нояб. – утр. вып.
20. Украинский театр «Жовтень» // Красная газета. – 1930. – 7 окт. – веч. вып.
21. Фалькевич И. Кончить неразбериху с Украинским театром // Рабочий и театр. – 1931. – № 2. – 21 янв. – 24 с.
22. Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб.). Ф. 111. Коллектив работников искусств («Рабис») Ленинградского объединения Коллективов из безработных (1925 – 1930). – Оп. 1. – Д. 130.
23. Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб.). Ф. 240. Государственный Украинский театр «Жовтень» («Октябрь») (1930 – 1932). – Оп. 1. Д. 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19.
24. Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб.). Ф. 283. Объединенный архивный фонд «Ленинградский Обком профсоюза работников искусств (Сорабис), предшествующие и подведомственные ему организации» (1917 – 1953). – Оп. 2. – Д. 1548.
25. Янковский М. Диктатура в Гос. Театре драмы // Рабочий и театр. – 1930. – № 62–63. – 20 нояб. – 24 с.
References
1. A. P. Personnel in the Ukrainian Theatre [“Kadry” v Ukrainskom teatre]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1931, № 2, 21 January, 24 p.
2. G-bov V. “Personnel”. Premiere in the Theatre “Zhovten” [“Kadry”. Premera v teatre “Zhovten”]. Krasnaya gazeta (Red Newspaper), 1931, 9 January, evening issue.
3. Golubov V. “The Haidamakas” [“Gaydamaki”]. Krasnaya gazeta (Red Newspaper), 1931, 18 February.
4. Gorodskiy Ig. “Personnel”. The Ukrainian Theatre “Zhovten” [“Kadry”. Ukrainskiy teatr “Zhovten”]. Leningradskiy student (Leningrad Student), 1931, 21 January.
5. Gorokhov G. “Dictatorship” in the Ukrainian Theatre [“Diktatura” v Ukrainskom]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1930, № 62–63, 20 November, 24 p.
6. Life of Art (Zhizn iskusstva), 1929, № 14, 1 April.
7. Iriy Andriy. RSFSR Will Have its Ukrainian theatre [RSFSR budet imet svoy Ukrainskiy teatr]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1930, № 23, 26 April, 24 p.
8. Personnel in the Theatre “Zhovten” [“Kadry” v teatre “Zhovten”]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1930, № 70–72, 31 December, 24 p.
9. Kotvitskiy A. “Dictatorship” in the Ukrainian Theatre [“Diktatura” v Ukrainskom] Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1930, № 64–65, 24 p.
10. The Leningrad Theatres. Repertoire and Program Reference Book [Leningradskie teatry. Repertuarno-programmnyy spravochnik], 1930.
11. Leningradskaya Pravda (Leningrad Truth), 1929, 19 and 22 February.
12. Krasnaya gazeta (Red Newspaper), 1929, 23 February, morning and evening issues.
13. Mokulskiy S. “Dictatorship” in the Theatre “Zhovten” [“Diktatura” v teatre “Zhovten”]. Krasnaya gazeta (Red Newspaper), 1930, 20 November, evening issue.
14. N. S. “Huta” [“Guta”]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1931, № 19, 30 June, 24 p.
15. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1929 – 1931 years.
16. S-v Nikolay. “The Haidamakas” [“Gaydamaki”]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1931, № 6, 1 March, 24 p.
17. S-v Nikolay. “Zaporozhian Cossacks Beyond the Danube” at the “Zhovten” [“Zaporozhets za Dunaem” v “Zhovtene”]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1931, № 12, 1 May, 24 p.
18. Leningrad Theatres Guide [Sputnik po leningradskim teatram]. 1931.
19. Tasin L. Ukrainian Theatre in Leningrad [Ukrainskiy teatr v Leningrade]. Krasnaya gazeta (Red Newspaper), 1930, 9 November, morning issue.
20. The Ukrainian Theatre “Zhovten” [Ukrainskiy teatr “Zhovten”]. Krasnaya gazeta (Red Newspaper), 1930, 7 October, evening issue.
21. Falkevich I. To Finish the Muddle with the Ukrainian Theatre [Konchit nerazberikhu s Ukrainskim teatrom]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1931, № 2, 21 January, 24 p.
22. Central State Archive of Literature and Art of Saint Petersburg [Tsentralnyy gosudarstvennyy arkhiv literatury i iskusstva Sankt-Peterburga]. Fond 111. Kollektiv rabotnikov iskusstv («Rabis») Leningradskogo obedineniya Kollektivov iz bezrabotnykh (1925 – 1930) (Fund 111. Workers of Art of Leningrad Association of Groups of Unemployed Union (1925 – 1930)), list 1, file 130.
23. Central State Archive of Literature and Art of Saint Petersburg [Tsentralnyy gosudarstvennyy arkhiv literatury i iskusstva Sankt-Peterburga]. Fond 240. Gosudarstvennyy Ukrainskiy teatr «Zhovten» («Oktyabr») (1930 – 1932) (Fund 240. The State Ukrainian Theatre “Zhovten” (“October”) (1930 – 1932)), list 1, files 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19.
24. Central State Archive of Literature and Art of Saint Petersburg [Tsentralnyy gosudarstvennyy arkhiv literatury i iskusstva Sankt-Peterburga]. Fond 283. United Archive Fund “Leningrad Regional Committee of Workers of Art Trade Union, Its Former and Dependent Organizations (1917 – 1953)” (Obedinennyy arkhivnyy fond “Leningradskiy Obkom profsoyuza rabotnikov iskusstv (Sorabis), predshestvuyuschie i podvedomstvennye emu organizatsii” (1917 – 1953)), list 2, file 1548.
25. Yankovskiy M. Dictatorship in the State Drama Theatre [Diktatura v Gosudarstvennom Teatre dramy]. Rabochiy i teatr (Worker and Theatre), 1930, № 62–63, 20 November, 24 p.
[1] «Не так склалося, як ждалося» («Не так сложилось, как ожидалось») – название пьесы классика украинской литературы, одного из создателей украинского национального театра М. П. Старицкого; распространенная поговорка.
«Не так склалося, як ждалося» (Man Proposes, God Disposes) – the play of a classic of Ukrainian literature, one of the creators of the Ukrainian national theatre M. P. Staritski; a popular saying.
[2] Процесс Промпартии – судебный процесс над группой инженеров, обвиненных во вредительстве в промышленности, проходивший в Москве 25 ноября – 7 декабря 1930 г.
[3] Ровинский Дмитрий Демидович (Деомидович), 1892 (1888) г. р., уроженец г. Зеньков Полтавской губ., украинец (по др. данным еврей), из мещан, беспартийный, член Центральной рады УНР, актер и режиссер, работал в театрах Киева, Харькова, Полтавы, Днепропетровска (театр Садовского, театр им. Шевченко и др.), переехал в Ленинград в 1930 г., организатор и директор гос. украинского театра «Жовтень», проживал: наб. р. Мойки, д. 24, кв. 22. Арестован 14 ноября 1931 г. Выездной сессией Коллегии ОГПУ в г. Ленинград 21 марта 1932 г. осужден по ст. 58-11 УК РСФСР на 5 лет концлагеря. Отбывал наказание в Свирьлаге, работал зав. гужтранспортом. Нарсудом Лодейнопольского р-на при Свирьлаге 30 ноября 1935 г. осужден по ст. 111 («в силу преступной халатности допустил потраву посева») на 1 год дополнительно. Переведен в Соловки, содержался на лагпунктах Анзер и Кремль, работал в театре. Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Карельской АССР (Сандармох) 3 ноября 1937 г. // Возвращенные имена: Книга памяти России. [Электронный ресурс] http://visz.nlr.ru/search/lists/t6/240_1.html.
Ссылка на статью:
Смирнова Т. М. «Не так склалося, як ждалося»: Украинский государственный театр в Ленинграде (из истории советской культурной политики) // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2015. – № 1. – С. 57–85. URL: http://fikio.ru/?p=1576.
© Т. М. Смирнова, 2015