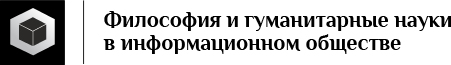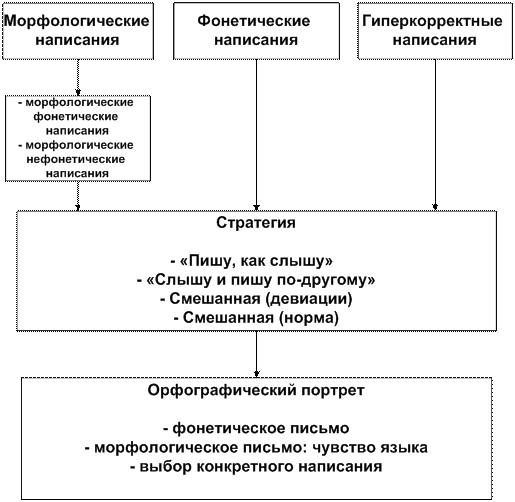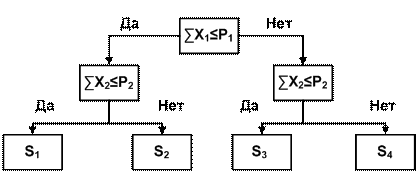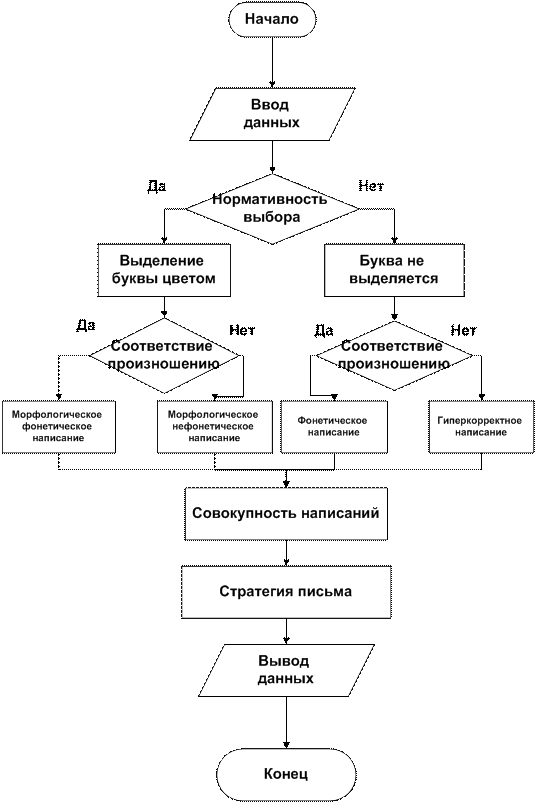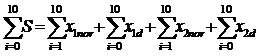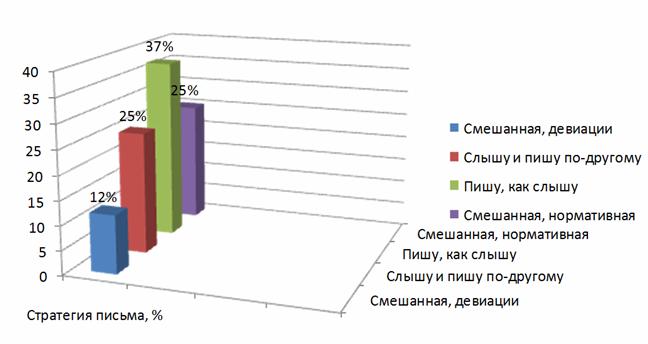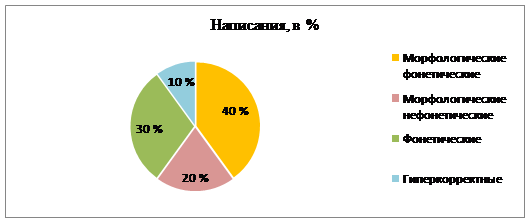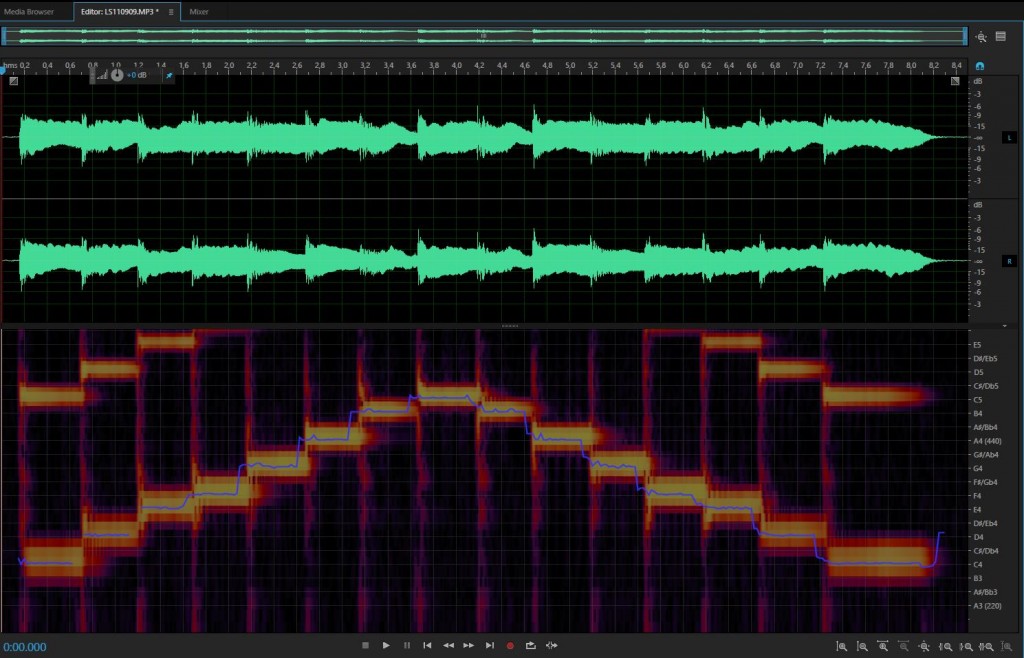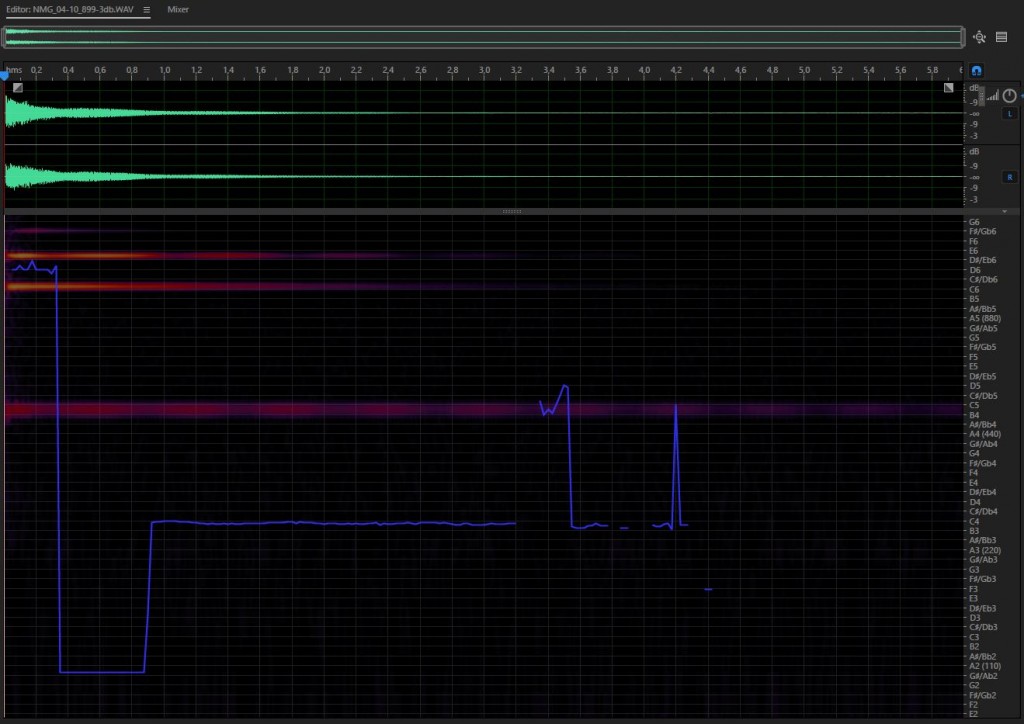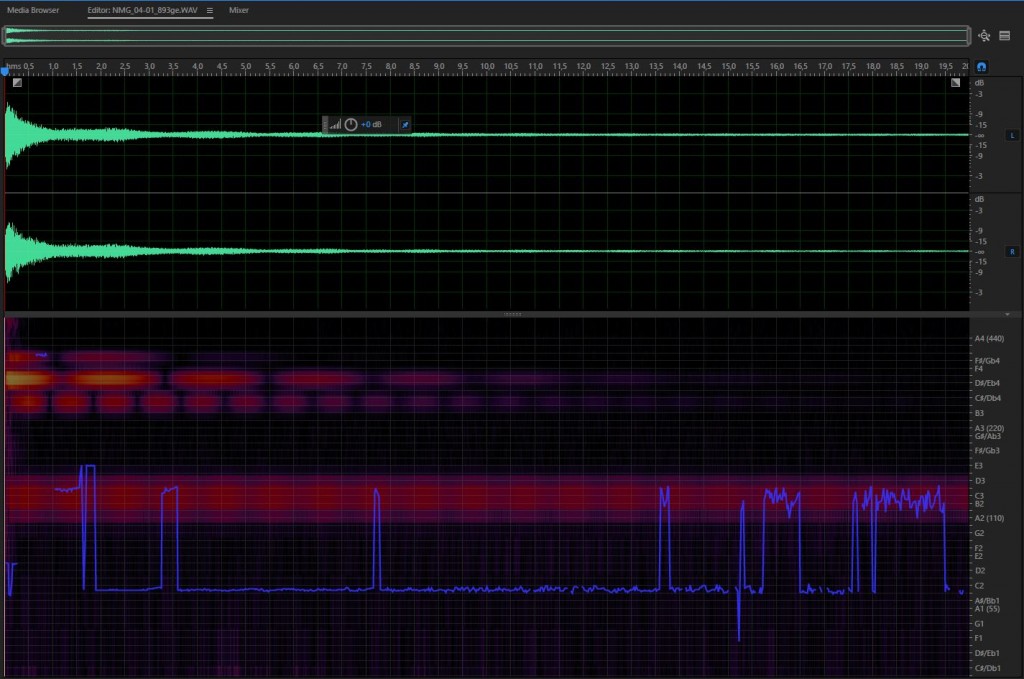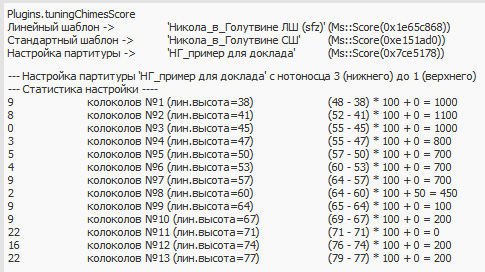УДК 130. 2
Выжлецов Павел Геннадиевич – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», кафедра истории и философии, доцент, кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: vyzhletsov@mail. ru
196135, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15,
тел.: +7 (812) 708-42-13.
Выжлецова Наталья Викторовна – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», кафедра рекламы и современных коммуникаций, доцент, кандидат культурологии, доцент, Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: maus72@mail.ru
196135, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15,
тел.: +7 (812) 708-43-45.
Авторское резюме
Состояние вопроса: А. Р. Рэдклифф-Браун является одним из основателей структурного функционализма и современной социальной антропологии. В настоящее время структурно-функциональный анализ широко применяется в научном исследовании феномена общества. Под влиянием Малиновского и Рэдклифф-Брауна в структурном функционализме, прежде всего в британской социальной антропологии, полевые исследования стали сочетать с функционалистским теоретизированием.
Результаты: Основной вклад А. Р. Рэдклифф-Брауна в развитие антропологии связывают с применением «системного подхода» к изучению примитивных обществ и с «поворотом» социальной антропологии к сравнительному исследованию общественных структур. Он переосмыслил понятие, предмет и методы социальной антропологии. Основой теоретического подхода Рэдклифф-Брауна стало выделение системных характеристик общественной реальности. Сама же теория выстраивалась с помощью ряда понятий (социальная система, социальная структура, социальная функция, социальная эволюция), в разработку которых он также внес свой вклад. Рэдклифф-Браун определил предмет своих исследований как изучение социальной структуры и социальных отношений. Вследствие этого на месте человека-мастера оказалась группа людей, рассматриваемая с точки зрения различных форм коммуникации, выступающих в качестве основополагающего условия общественной жизни.
Область применения научных результатов: Учет различных аспектов интерпретации концепта общества и культуры расширяет познавательные возможности социальной и культурной антропологии, этнографии, этнологии, социологии, культурологии, теории культуры.
Выводы: Утверждение функционализма как направления в антропологии связано с переносом исследовательского интереса с проблем истории культуры на изучение культурных и социальных институтов. Указанные институты рассматривались в качестве структурных элементов культуры, и задача состояла в исследовании способов их функционирования, в изучении функций культуры. Сама же культура выступала как нечто производное от структуры общественных отношений и связей, как форма социальной жизни. Б. Малиновский и А. Р. Рэдклифф-Браун полагали, что явления культуры следует изучать по тем характеристикам, которые доступны наблюдению, т. е. с учетом их функции и формы. Поэтому функционализм выступил в качестве методологии полевых исследований и «сравнительного анализа культур». В поздних работах Рэдклифф-Браун воздерживался от употребления понятия «культура» самого по себе. Он осмысливал содержательную область культуры, как с точки зрения психологии, так и социологии. В области психологии Рэдклифф-Браун понимал ее как «процесс» (теорию «научения»). В сфере социологии и социальной антропологии он охарактеризовал культуру через «процесс культурной традиции» (то есть «передачи» языка, знаний, навыков и др.). Последователи Б. Малиновского и А. Р. Рэдклифф-Брауна подвергли критике некоторые особенности структурного функционализма – как чрезмерное подчеркивание равновесия и порядка в социокультурных системах, так и почти полное отсутствие историзма, т. е. исторического ракурса в их исследованиях. Результатом этой критики стали различные уточнения и преобразования функционального подхода.
Ключевые слова: А. Р. Рэдклифф-Браун; функционализм; структурный функционализм; антропология; социальная антропология; культурная антропология; природа; культура; общество; социальная структура; социальная функция; социальная эволюция; личность.
Structural and Functional Analysis of A. R. Radcliffe-Brown’s Society and Culture
Vyzhletsov Pavel Gennadievich – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Department of History and Philosophy, Associate Professor, Ph. D. (Philosophy), Saint Petersburg, Russia.
E-mail: vyzhletsov@mail. ru
15, Gastello st., Saint Petersburg, 196135, Russia,
tel: +7 (812) 708-42-13.
Vyzhletsova Natalia Viktorovna – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Department of Advertising and Modern communications, Associate Professor, Ph. D. (Theory of Culture), Saint Petersburg, Russia.
E-mail: maus72@mail.ru
15, Gastello st., Saint Petersburg, 196135, Russia,
tel: +7 (812) 708-43-45.
Abstract
Background: A. R. Radcliffe-Brown is one of the founders of structural functionalism and modern social anthropology. At present, structural and functional analysis is widely used in scientific research of the phenomenon of society. Malinowski and Radcliffe-Brown’s structural functionalism, primarily in British social anthropology, strongly influenced the fact that fieldwork was combined with functional theory.
Results: A. R. Radcliffe-Brown’s main contribution to the development of anthropology is associated with the use of a “systematic approach” to the study of primitive societies and “turning” social anthropology to a comparative study of social structures. He reinterpreted the concept, subject and methods of social anthropology. The basis of Radcliffe-Brown’ theoretical approach was the identification of system characteristics of social reality. The theory itself was formulated with the help of a number of concepts (social system, social structure, social function, social evolution), to the development of which he also contributed. Radcliffe-Brown determined the subject of his research as a study of social structure and social relations. In consequence, the homo faber turned out to be a group of people, considered in terms of various forms of communication, acting as the fundamental condition of public life.
Implications: The integration of various aspects of the interpretation of society and culture concepts expands the cognitive capabilities of social and cultural anthropology, ethnography, ethnology, sociology, culturology, culture theory.
Conclusion: The adoption of functionalism as a trend in anthropology is associated with transferring research interest from the problems of culture history to the study of cultural and social institutions. These institutions were considered to be structural elements of culture, and the task was to learn the ways of their functioning, in the study of culture. Culture itself acted as something derived from the structure of social relations and links, as a form of social life. B. Malinowski and A. R. Radcliffe-Brown believed that the phenomena of culture should be studied according to those characteristics that are available to monitoring, i. e. taking into account their function and form. Therefore, functionalism became a methodology for fieldwork research and a “comparative analysis of cultures”. In his later works, Radcliffe-Brown refrained from using the notion of “culture” itself. He comprehended the content domain of culture, both from the point of view of psychology and sociology. In the field of psychology, Radcliffe-Brown understood it as a “process” (the theory of “learning”). In the field of sociology and social anthropology, he characterized culture as the “process of cultural tradition” (i. e. “translation” of the language, knowledge, skills, etc.). The followers of B. Malinowski and A. R. Radcliffe-Brown criticized certain peculiarities of structural functionalism, such as great emphasis on balance and order in sociocultural systems, and the almost complete absence of historicism, i. e. the historical perspective in their research. The result of this criticism was the various refinements and transformations of the functional approach.
Keywords: A. R. Radcliffe-Brown; functionalism; structural functionalism; anthropology; social anthropology; cultural anthropology; nature; culture; society; social structure; social function; social evolution; personality.
1. Характеристика функционализма
Утверждение функционализма как направления в антропологии связано с переносом исследовательского интереса с проблем истории культуры на изучение культурных и социальных институтов. Эти институты рассматривались в качестве структурных элементов культуры, и задача состояла в исследовании способов их функционирования, иначе говоря, в изучении функций культуры. Сама же культура выступала как нечто производное от структуры общественных отношений и связей. Такое понимание культуры сложилось не без влияния социологии Э. Дюркгейма [10, с. 18].
Родоначальники функционализма в области британской социальной антропологии Б. Малиновский и А. Рэдклифф-Браун полагали, что явления культуры следует изучать по тем характеристикам, которые доступны наблюдению, т. е. с учетом их функции и формы. Поэтому функционализм выступил в качестве методологии полевых исследований и «сравнительного анализа культур» [10, с. 19]. Вместе с тем представители данного направления не считали, что оно противоречит как эволюционизму, так и диффузионизму.
В функционализме акцент делается на изучении элементов культуры либо как частей культурной системы (структуры), либо как их функций [3, с. 37].
Само название направления происходит от термина «функция». Развернутые теории, разрабатывавшие варианты функционального подхода, появились в социальных науках лишь в XIX в. Они создавались преимущественно в русле становящегося социологического знания такими авторами, как О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм.
В частности, именно Г. Спенсер заложил основания функционалистского терминологического аппарата (термины «структура», «функция» и др.) и оказал принципиальное влияние на развитие функционального подхода.
Э. Дюркгейм, в свою очередь, попытался избавиться как от биологизированной модели, связанной с уподоблением общества организму, так и от приписывания обществу некоторой заранее заданной цели развития, т. е. телеологизма [9, с. 177]. Так, в частности, у О. Конта конечной целью развития общества выступало удовлетворение потребности в достижении согласия [3, с. 38].
Э. Дюркгейм, пытаясь преодолеть подобное представление, настаивал на том, что для постижения «корней» явлений нужно их изучать с точки зрения «функций». При этом у него имело место антипсихологическое понимание функции: «Функция социального факта может быть только социальной, т. е. она заключается в создании социально полезных результатов» [9, с. 178]. Исследователи утверждают, что именно в связи с этим положением возникли принципиальные разногласия между Б. Малиновским и А. Рэдклифф-Брауном – первый от него отказался, а второй его воспринял [9, с. 178].
В контексте сопоставления идей родоначальников функционализма следует обозначить принципиальные идеи и значение концепции Б. Малиновского. Сам Малиновский представлял свою функциональную теорию как теорию культуры [3, с. 48]. Функциональный анализ должен был послужить строгому научному рассмотрению культуры как основному объекту антропологии и этнологии. При этом даже в таком систематизирующем исследовании как «Культура: критический обзор понятий и определений» А. Кребера и К. Клакхона (1952) не учтены все аспекты концепта культуры у Б. Малиновского [17, p. 815].
Прежде всего, в своих определениях культуры Малиновский опирался на предшествующую научную традицию, в первую очередь на идеи Э. Тайлора. Поэтому культура выступала у него как совокупность взаимосвязанных элементов («целостное образование»): институтов, продуктов, идей, привычек, ценностей, технических процессов и т. д. Но Малиновский не отделял друг от друга культуру и социальную структуру так четко, как это проделал Рэдклифф-Браун. У первого из названных социальную организацию следует понимать фактически только как часть культуры [17, p. 815].
Кроме того, культура, по Малиновскому, есть вторичная искусственная среда («инструментальный аппарат»), позволяющая удовлетворять базовые потребности. Наконец, идея Малиновского, что «факт становится фактом культуры тогда, когда индивидуальный интерес перерастает в систему организованных действий, принятых в том или ином обществе» [15, с. 38], вызвала резкую критику Л. Уайта. По мнению последнего, в основе культуры лежит не организованность действий, а исключительно человеческая способность создавать и воспринимать символы [2, с. 83].
В итоге, Малиновский дополнил и конкретизировал функциональный анализ культуры институциональным подходом. Институты как единицы организации складываются вокруг некоторых потребностей и осуществляют определенные функции в культуре. Они не связаны с какой-то одной потребностью и осуществляют их интегральное удовлетворение.
Таким образом, Малиновский сформулировал несколько дефиниций культуры – функциональную (инструментальную) и институциональную, которые следует рассматривать во взаимосвязи [3, с. 49].
Подчеркнем, что в поздних работах Рэдклифф-Браун воздерживался от употребления понятия «культура» самого по себе, и обратимся к основным положениям его концепции. При этом отметим, что в отличие от Б. Малиновского в соотношении понятий «структура – функция» он сконцентрировал внимание на первом термине. Более того, в противовес воззрениям Малиновского Рэдклифф-Браун назвал себя «антифункционалистом», хотя значение функционализма в его работах велико и он относится к родоначальникам этого направления в антропологии.
2. Интеллектуальная биография
Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун (1881–1955), по мнению Э. Эванс-Причарда, стал «выдающейся фигурой в мире антропологии» [16, с. 244], одним из основателей современной британской социальной антропологии и функционализма.
К его основным работам относят две монографии, – «Жители Андаманских островов» (1922) и «Социальная организация австралийских племен» (1948), а также многочисленные статьи и очерки. Часть очерков вошла в сборник «Метод социальной антропологии» (1958). Известность получил и сборник «Структура и функция в примитивном обществе» (1952), а ученики Рэдклифф-Брауна опубликовали его лекции, которые составили книгу «Естественная наука об обществе» (1957).
По свидетельству Эванс-Причарда, «Альфред Рэдклифф-Браун получил образование в бирмингемской школе имени короля Эдуарда, а затем в кембриджском Тринити-колледже, где он защитился по курсу психологии и этики. В Кембридже он познакомился с Риверсом и Хэддоном, направившими его интересы в сторону социальной антропологии. Позже на него оказала большое влияние французская социология, особенно сочинения Дюркгейма» [16, с. 244].
Исследователи отмечают, что У. Риверс и А. Хэддон считаются важными фигурами в истории английской социальной антропологии. Они внесли вклад в ее формирование в качестве профессиональной дисциплины. Так, благодаря усилиям А. Хэддона антропология была впервые введена как предмет преподавания в Кембриджском университете. В свою очередь, У. Риверс разработал генеалогический метод изучения родства, определив одно из основных направлений развития антропологии до 1970-х годов. Кроме того, У. Риверс и А. Хэддон вовлекли в антропологию многих ученых, среди которых были А. Рэдклифф-Браун, Г. Бейтсон, У. Перри [4, с. 316].
После окончания университета Рэдклифф-Браун занялся полевыми исследованиями на Андаманских островах (1906-1908) и в Западной Австралии (1910-1912). Эти исследования принесли ему известность, благодаря чему он стал сотрудником Тринити-колледжа и членом-корреспондентом Королевского антропологического института [7, с. 327].
Согласно Эванс-Причарду, Рэдклифф-Браун впоследствии «…работал в университетах Кейптауна, Сиднея, Чикаго, Оксфорда, Александрии, Сан-Паулу, Грейамстауна и Манчестера. Он также недолго преподавал в Йоханнесбурге, а в Лондоне читал лекции в ЛШЭПН и Университетском колледже. Его учение, таким образом, распространилось весьма широко» [16, с. 244]. В частности, с 1931 по 1937 гг. Рэдклифф-Браун руководил кафедрой социальной антропологии в Чикагском университете и активно способствовал ознакомлению американских антропологов со «структурно-функциональными идеями» французской социологической школы (Дюркгейм, Юбер, Мосс и др.) [7, с. 327].
Научные заслуги А. Р. Рэдклифф-Брауна были высоко оценены: он был избран первым президентом Британской ассоциации социальных антропологов и президентом Королевского антропологического института.
Современные исследователи связывают основной вклад А. Рэдклифф-Брауна в развитие антропологии с «системным подходом» к изучению примитивных обществ, а также с «поворотом» социальной антропологии к сравнительному исследованию общественных структур [7, с. 327].
3. Социальная антропология
Обращаясь, в частности, к идеям Дж. Фрэзера, он переосмысливал понятие, предмет и методы социальной антропологии. Сам Дж. Фрэзер делал акцент на изучении лишь примитивных обществ.
Согласно Рэдклифф-Брауну, «социальную антропологию можно определить как исследование природы человеческого общества путем систематического сравнения обществ разных типов, уделяющее… внимание более простым формам общества, существующим у примитивных, туземных, или бесписьменных народов» [12, с. 205] (из незаконченного учебника по социальной антропологии, 1950–1955 гг.).
Есть основания считать, что для него исследование «природы» общественного явления предполагало выяснение структуры и функций последнего. Так, согласно Рэдклифф-Брауну, «несомненно, одна из целей социальной антропологии состояла в том, чтобы понять природу человеческих институтов… узнать, как они работают» [12, с. 78] («Нынешнее состояние антропологических исследований», президентское обращение к секции «Н» Британской ассоциации развития науки, прочитанное по случаю 100-летия ее основания в Лондоне в 1931 г.). То есть, изучение специфики общества предполагало ответ на вопрос: «Как они “работают”?» [12, с. 78].
Вместе с тем, он выделял предмет исследования социальной антропологии: «Это общая теоретическая наука о социальных институтах: праве, религии, политической и экономической организации и т. д.» [12, с. 158] («Предмет и границы социальной антропологии», 1944). Рэдклифф-Браун считал ее «естественной наукой об обществе», а программа создания последней оформилась в лекциях, прочитанных в Чикаго в 1937 г. [7, с. 328].
В связи с этим особо выделяют чикагский период его научной деятельности, датируемый 1931-1937 гг. Свидетельством этого периода стали, в частности, лекции Рэдклифф-Брауна, собранные его учениками и составившие затем книгу «Естественная наука об обществе» (1957).
В это время Рэдклифф-Браун разработал теоретические и методологические основания новой социальной антропологии и в духе Э. Тайлора и Дж. Фрэзера определил ее цель: изучение всеобщих общественных законов [6, с. 277]. То есть, если до 1930-х гг. он считал культуру объектом исследования социальной антропологии, то впоследствии в качестве такового выступило общество. Причем в 1937 г. на семинаре Рэдклифф-Браун заявил, что культура не обладает самостоятельной реальностью, а является лишь одной из характеристик общественной жизни [6, с. 277].
Основу естественной науки об обществе составило представление о «естественной системе». Исследователи отмечают, что, согласно Рэдклифф-Брауну, каждая наука изучает определенный класс систем, которые являются ее специфическим предметом исследования. Предметом социальной антропологии выступают «социальные системы», которые рассматриваются как часть природы. Поэтому социальная антропология относится к естественным наукам. Вместе с тем общественные системы самостоятельны, имеют особую природу, поэтому законы, в соответствии с которыми они существуют, не сводятся ни к биологии, ни к психологии.
В процессе познания социальная антропология должна пользоваться методом, сходным с методами естественных наук. Для Рэдклифф-Брауна это «опытно-индуктивный» метод, свободный от оценочных суждений, и включающий в себя такие процедуры общенаучного характера, как наблюдение, классификация, генерализация (обобщение) [7, с. 328].
Прежде чем охарактеризовать указанный метод, необходимо учесть обстоятельство, связанное с переосмыслением подхода и задач социальной антропологии. Так, Рэдклифф-Браун указал на принципиальное различие между методами «историческим» и «генерализирующим», а также между науками – этнологией и социальной антропологией. Он подверг критике распространенный в антропологии метод исторической реконструкции, направленный на изучение происхождения и развития социальных и культурных явлений. Рэдклифф-Браун считал этот метод ненадежным из-за того, что в бесписьменных обществах отсутствуют документы, необходимые для объективного исследования, а также потому, что историческая реконструкция не позволяет выработать то знание, которое можно применить на практике [7, с. 328].
Поэтому Рэдклифф-Браун полагал целью этнологии реконструкцию социальной и культурной истории и назвал ее «идиографической» наукой. Признавая значение предшествующих исследований, он оценивал главную задачу социальной антропологии как теоретическое понимание общественных явлений, называя ее «номотетической» наукой [7, с. 328].
А. Р. Рэдклифф-Браун, в частности, охарактеризовал «новейшую» социальную антропологию так: «Она рассматривает любую культуру как интегрированную систему и изучает функции… социальных институтов, обычаев и верований как составных частей такой системы. Она применяет к человеческой жизни в обществе генерализирующий метод естественных наук, пытаясь сформулировать лежащие в ее основе общие законы и объяснить… феномен… изучаемой культуры как частный случай какого-то общего или универсального принципа. Новейшая антропология… наука функциональная, генерализирующая и социологическая» [12, с. 104] («Нынешнее состояние антропологических исследований», 1931 г.).
Под «общими законами» он понимал обобщения, касающиеся «фактов или событий» [7, с. 328], а сам процесс познания общественных и культурных явлений осмысливался им как подведение под такое обобщение.
Социальная антропология должна формулировать обобщения двух типов: во-первых, относящиеся к условиям существования обществ, социальных систем или форм общественной жизни – это законы «социальной статики»; во-вторых, касающиеся устойчивых характеристик общественных изменений, т. е. законы «социальной динамики» [13, с. 14–15]. Для того чтобы прийти к формулировке указанных законов, антропология должна использовать «опытно-индуктивный» метод получения знаний. При этом Рэдклифф-Браун основывался на понимании индукции Уэвеллом, согласно которому она предполагает применение ясных понятий к фактам, сочетая в себе как процедуру обобщения, так и уточнения терминов [7, с. 328].
Этот метод включал в себя:
— наблюдение, направленное на получение фактов;
— формулировку гипотезы для объяснения последних;
— проверку гипотезы с помощью повторного обращения к полевым исследованиям;
— проверку, продолжающуюся до тех пор, пока на основе гипотезы не будет сформулирована теория.
Иначе говоря, указанный метод предполагал использование процедур наблюдения, классификации и обобщения [7, с. 328].
Вместе с тем создание «общих законов» невозможно без метода сравнения, т. е. исследования сходства и различий между социальными и культурными явлениями. Рэдклифф-Браун связывал с этим методом существо социальной антропологии и считал его универсальным. В частности, он утверждал: «Итак, для новой антропологии сравнительный метод является методом получения обобщений. В вариациях какого-либо института и обычая в одном регионе мы стремимся отыскать, что является общим для всего этого региона или типа. Сравнив достаточное число разных типов, мы открываем еще более общие единообразия, и таким путем мы можем прийти к открытию принципов или законов, универсальных для всего человеческого общества» [12, с. 128] («Нынешнее состояние антропологических исследований», 1931 г.). Иными словами, открытие «универсальных» законов является последней целью метода сравнения.
Следует также отметить, что Рэдклифф-Браун считал социальную антропологию отраслью социологии как общей науки об обществе и называл ее также «сравнительной социологией». Развитие антропологии он связывал как с разработкой теории, так и с данной в опыте реальностью. Так, исследователи отмечают, что для Рэдклифф-Брауна теория представала как «связная и логически согласованная система технических терминов», а под эмпирической реальностью Рэдклифф-Браун понимал «процесс социальной жизни» [7, с. 329]. Именно взаимосвязь с реальностью благодаря эмпирическим исследованиям позволит социальной антропологии избежать ошибки реификации, то есть «утраты конкретности» [7, с. 329].
Исследователи отмечают, что основой теоретического подхода Рэдклифф-Брауна стало выделение системных характеристик общественной реальности. Сама же теория выстраивалась с помощью ряда понятий, в разработку которых он внес свой вклад. К последним, в частности, относят такие термины как «социальная система», «социальная структура», «социальная функция», «социальная эволюция» и др. [7, с. 329].
4. Социальная структура и личность
А. Р. Рэдклифф-Браун рассматривал «социальную систему» как своего рода сеть отношений между людьми. Эти отношения проявляются в их поведении друг с другом и поэтому доступны наблюдению. Любое общественное явление необходимо изучать как часть соответствующей системы, в соотнесении с ней.
Те свойства общественной системы, которые регулярно проявляются в ней, Рэдклифф-Браун называл «социальными структурами». Это понятие стало центральным в его теории, особенно в поздних работах.
Он считал, что «конечными… элементами социальной структуры являются индивидуальные человеческие существа, фигурирующие в социальной жизни как действующие лица, или персоны. Сама же структура представляет собой расстановку лиц по отношению друг к другу. <…> В конечном счете, социальная структура проявляется либо во взаимодействиях между группами (например, когда одна нация идет войной на другую), либо во взаимодействиях между лицами» [12, с. 261–262] (из незаконченного учебника по социальной антропологии).
Согласно Рэдклифф-Брауну, исследование «социальных структур» принципиально, так как все общественные и культурные события либо оказываются ее проявлениями, либо находятся с ней в причинно-следственных отношениях: «Итак, социальную структуру необходимо определять как преемственную во времени упорядоченную расстановку лиц в отношениях, определяемых или контролируемых институтами, т. е. социально установленными нормами или образцами поведения» [12, с. 275] (из незаконченного учебника по социальной антропологии).
«Социальные структуры» состояли из индивидов, групп распределения индивидов по классам, например, вожди и простолюдины, отношений между двумя лицами («диадических»), например, господин и слуга.
В различных обществах «социальные структуры» организованы по-разному, что требует особых исследований. Одной из основных задач социальной антропологии Рэдклифф-Браун считал «классификацию типов структурных систем» [7, с. 329].
Неотъемлемым свойством «социальной структуры» он считал ее устойчивость во времени, называя совокупность таких свойств «структурной формой». В отличие, например, от Э. Дюркгейма, Рэдклифф-Браун связывал представление о «социальной функции» не с потребностями, а с необходимыми условиями существования общества, в частности, с институтами. Так, ожидание того, что индивид будет следовать в своем поведении принятым в обществе обычаям, правилам, нормам, он охарактеризовал термином «институт» – например, институт семьи. При этом он считал, что в общественной жизни каждый человек одновременно выступает как в качестве индивида, так и личности, т. е. «персоны».
Под «индивидом» Рэдклифф-Браун понимал человека как «биологический организм». Термином «персона» обозначалась совокупность общественных связей человека, а вся совокупность отношений и связей характеризовалась понятием «социальная личность». Если биологически человек остается тождественным самому себе, то как «социальная личность» он может значительно изменяться [7, с. 330].
В ранних работах Рэдклифф-Браун относил культуру к «форме социальной жизни», включая в ее содержание совокупность правил, основывающихся на доверии, общие символы, например, мифы и произведения искусства, общие особенности чувствования и мышления, в частности, связанные с верой [7, с. 330].
Принципиальной чертой культуры он считал также культурные традиции, обеспечивающие передачу знаний, умений, верований от поколения к поколению. В определенном обществе таких традиций может быть множество. Поэтому, согласно Рэдклифф-Брауну, культура присуща исключительно человеку. Социальные же явления, предполагающие сходство между организмами, могут быть и у животных [7, с. 330].
Вместе с тем он сравнивал функцию культуры в общественной жизни с той, которую осуществляет инстинкт в жизни биологической. Рэдклифф-Браун считал, что культура есть лишь черта, проявление социума, которую можно наблюдать через человеческое поведение. В поздний период своей деятельности он пришел к мысли, что культура не имеет самостоятельного существования и, как следствие, что наука о культуре не может быть создана [7, с. 330].
5. Дискуссия между А. Рэдклифф-Брауном и Л. Уайтом
В данном контексте примечательна критика А. Рэдклифф-Брауном идей Л. Уайта, в том числе с точки зрения спора между выдающимся представителем британской социальной антропологии, с одной стороны, и американской культурной антропологии, с другой.
Например, Л. Уайт критиковал социологов в целом: «…социологи думают о культуре как о поведении, как о социальном процессе или взаимодействии… Однако они редко когда (если вообще когда-либо) поднимаются до уровня рассмотрения культуры как отличного от других и отдельного класса супрапсихологических, супрасоциальных явлений, как процесса sui generis со своими собственными законами. Короче говоря, они не могут подняться над наукой об обществе и увидеть науку о культуре. <…> Будучи социологами, они и по определению, и по традиции посвящают себя изучению общества, социального взаимодействия» [14, с. 98].
Обращаясь к критике идей Рэдклифф-Брауна, Уайт отмечал, что тот не смог «оценить понятие науки о культуре» [14, с. 109]. Однако, по Уайту, Рэдклифф-Браун все же применял культурологический подход в книге «Социальная организация австралийских племен» и в «Методах этнологии и социальной антропологии», проводя различие «между “социальной антропологией” и психологией» [14, с. 111].
Отметим также, что в качестве своих предшественников культурологов Уайт часто называл: Тайлора, Дюркгейма, Крёбера, Лоуи, Уисслера [14, с. 112].
Далее, Уайт критиковал социологический характер антропологии Рэдклифф-Брауна, в частности, следующее высказывание: «Он спрашивает: “Возможна ли наука о культуре? Боас говорит, что нет. Я с ним согласен. Науки о культуре быть не может”. Однако говорит он, наука об обществах возможна, и именно такова подлинная цель социального антрополога. Радклифф-Браун очень ловко вносит путаницу, называя культуру абстракцией» [14, с. 109].
В качестве примера Уайт подчеркивал, что «слова» представляют собой не абстракции, а «культурные черты», которые наделены «символическим значением» [14, с. 109–110]. Ниже он уточнял: «Культурные черты – это очень реальные вещи: это те объекты, акты, формы, чувства и идеи, которые и могут восприниматься в качестве реальных вещей, и являются таковыми» [14, с. 110].
В свою очередь, Рэдклифф-Браун критиковал классификацию наук, представленную Уайтом («психология, социология, наука о культуре» [11, с. 83]) и предлагал разграничить их предметные области, исходя из социологического подхода. По Рэдклифф-Брауну, Уайт фактически свел социологию к психологии и критиковал первую за то, что она не способна «стать наукой о культуре» [11, с. 84].
Рэдклифф-Браун утверждал: «Лучший способ разграничить разные отрасли науки – это соотнести их с классами эмпирических систем, которыми они… занимаются, имея в виду, что задача каждой отрасли науки состоит в открытии общих характеристик соответствующего класса эмпирических систем» [11, с. 84].
Отсюда следовало, что психология изучает психические системы, а социология пытается «выявить общие характеристики социальных систем» [11, с. 84].
Также Рэдклифф-Браун подчеркивал, что составляющими общественных «систем» выступают «персоны» («англичанин, отец, каменщик, член профсоюза, методист») [11, с. 84], а, например, не формы поведения. Он утверждал: «Социальная система есть система ассоциации персон в социальной структуре. Социолог изучает обнаруживающиеся у людей формы ассоциации» [11, с. 84].
Обращаясь к проблеме культуры в поздний период, Рэдклифф-Браун стремился избежать использования термина «культура» самого по себе. Например, он определял ее с точки зрения психологии как «процесс», вследствие чего эта наука исследует «процесс культуры», что есть, «фактически, теория научения» [11, с. 84].
В свою очередь в центре внимания социолога находится «процесс культурной традиции»: «Реальностью, к которой я считаю применимым слово “культура” как социолог, является процесс культурной традиции, т. е. процесс, посредством которого в… социальной группе или социальном классе передаются от персоны к персоне и из поколения в поколение язык, верования, идеи, эстетические вкусы, знания, навыки и разного рода обыкновения (“традиция” означает “передачу”). Социолог… обязан изучать всевозможного рода культурные традиции, находимые в обществе… Культурная традиция – это социальный процесс взаимодействия персон в рамках социальной структуры. Уайт, похоже, не признает ни одно из этих понятий культуры» [11, с. 84].
В результате Рэдклифф-Браун ставил вопрос о том, не должно ли признать существование лишь двух наук, социологии и психологии, причем первой, как не сводимой к социальной психологии, и психологии в целом. Отсюда следовало: «Если мы допускаем существование социологии, то Уайт не прояснил различие между исследованиями, методами, проблемами и теориями сравнительной социологии, с одной стороны, и отдельной науки о культуре, с другой» [11, с. 86].
В целом представления Рэдклифф-Брауна о культуре в поздний период носили производный и функциональный характер.
Лаконичный итог спора между А. Р. Рэдклифф-Брауном и Л. Уайтом подводит современный исследователь В. Г. Николаев, подчеркивая, что из дискуссии «оба вышли, не изменив ни на йоту своих точек зрения» [8, с. 64].
Далее следует наметить последующую перспективу разработки проблематики общества и культуры, соотношения между социальной и культурной антропологией.
6. Проблема соотношения между социальной и культурной антропологией
Отметим, что в сборнике «Структурная антропология» К. Леви-Стросс поместил обзор существующего состояния и наметил перспективы развития антропологии к концу 1950-х годов. Здесь же он обозначил проблему различия, в частности, между культурной и социальной антропологией. Например, данное различие носит не только понятийный характер, но также соответствует «определенным теоретическим устремлениям» [5, с. 371]. Хотя выбор термина, например, при названии университетской кафедры, мог носить и случайный характер, как это, весьма возможно, произошло в Англии [5, с. 371].
Далее Леви-Стросс, характеризуя идеи некоторых своих предшественников, обратил внимание на сходство между культурной и социальной антропологией. Он подчеркивал, что само различие между смыслом слов «культурный» и «социальный» не столь уж значительно.
Первым, кто предложил научно-антропологическое определение термина «культура», был английский исследователь Э. Тайлор. Он определял культуру как такое «сложное целое», которое включает в себя знания, верования, нравственность, обычаи, а шире – другие «способности и привычки» [5, с. 371], усвоенные человеком как представителем общества. Следует отметить, что данное определение было дано в форме перечисления элементов, а не посредством обнаружения некоторой общности – например, общего свойства, специфики.
Вместе с тем в указанном определении было проведено принципиальное различие между человеком и животными. С точки зрения Леви-Стросса, отсюда произошла «классическая оппозиция между природой (nature) и культурой (culture)» [5, с. 371], а человек здесь понимался как человек-мастер. Таким образом, обобщает он, «обычаи, верования и установления… это технические средства, находящиеся на службе социальной жизни и делающие ее возможной…» [5, с. 371].
Задачей социальной антропологии у него выступало изучение общественной организации. Для ранних периодов развития американской традиции социальная антропология в целом была существенной главой, но только главой культурной антропологии.
По прошествии времени, глубокое теоретическое обоснование термина «социальная антропология» осуществил А. Рэдклифф-Браун: «…он определил предмет своих… исследований как изучение социальных отношений и социальной структуры» [5, с. 372]. Вследствие этого на месте человека-мастера оказалась группа людей, рассматриваемая с точки зрения различных форм коммуникации, выступающих в качестве основополагающего условия общественной жизни.
Следуя французской традиции, М. Мосс высказал мысль, что изготовленные изделия (орудия труда, предметы культа) относятся к общественным явлениям, что соответствует и представлениям, сложившимся в культурной антропологии. Таким образом, согласно Леви-Строссу, сходство культурной и социальной антропологии заключается в одинаковой программе исследования [см.: 5, с. 372]. Однако наряду со сходством существуют и различия между ними, в частности, относящиеся к их происхождению.
Так, социальная антропология изучала общественную группу как систему в статическом состоянии, а культурная антропология, в первую очередь, исследовала проблемы, относящиеся к «динамике развития». Леви-Стросс формулирует ее основной вопрос в период формирования так: «Каким образом культура передается от поколения к поколению?» [5, с. 373]. Применительно к культурной антропологии был предложен следующий вывод: «…система отношений, связывающая между собой все аспекты социальной жизни, играет более важную роль в передаче культуры, чем каждый из этих аспектов, взятый в отдельности» [5, с. 373]. Этот вывод сходен с заключением, сделанным в области социальной антропологии. Указанное сходство, в частности, объясняется влиянием учения о социальной структуре Рэдклифф-Брауна на традицию культурной антропологии [5, с. 373].
В итоге, согласно Леви-Строссу, «провозглашает ли себя антропология “социальной” или “культурной”, она всегда стремится к познанию человека в целом, но в одном случае отправной точкой в его изучении служат его изделия, а в другом — его представления. Таким образом… “культурологическое” направление сближает антропологию с географией, технологией и историей первобытного общества, в то время как “социологическое” направление устанавливает… сродство с археологией, историей и психологией. В обоих случаях существует… связь с лингвистикой, поскольку язык представляет собой преимущественно культурное явление (отличающее человека от животного) и одновременно явление, посредством которого устанавливаются… все формы социальной жизни» [5, с. 373–374].
В 1990-е годы Р. Борофски представляет обзор состояния антропологической науки и приводит значимую точку зрения: «…как отмечает Блох, нынешнее различие между британской социальной антропологией и американской культурной антропологией “не является абсолютным”, эти две ветви одной дисциплины традиционно делали… акцент на разные области исследования: в первом случае это “социальная структура”, а во втором – “культурные модели” …» [1, с. 6].
В 2000-е годы четко обозначилась тенденция к расширению предметного поля антропологии и объединения ее «ветвей» под знаком термина «социокультурная антропология». Это можно понять так: социальный аспект антропологии предполагает изучение, в частности, семьи и способов взаимодействия между ее представителями, а культурная составляющая обозначает исследование знаково-символических форм общения между ними.
Заключение
Подводя итоги, вначале необходимо отметить, что в ранний период Рэдклифф-Браун обосновывал властную (управленческую и просветительскую) функцию антропологии по отношению к туземным народам.
В поздний период научной деятельности Рэдклифф-Браун воздерживался от использования понятия «культура» как значимого самого по себе. Он осмысливал содержательную область культуры, как с точки зрения психологии, так и социологии. В области психологии Рэдклифф-Браун понимал ее как «процесс» (теорию «научения») [11, с. 84]. В сфере социологии и социальной антропологии он охарактеризовал культуру через «процесс культурной традиции» (то есть «передачи» языка, знаний, навыков и др.) [11, с. 84]. Содержание культуры в целом оказывалось производным от процессов общественных взаимодействий между людьми. На этом основании культура отрицалась в качестве особого предмета социальной антропологии, а также отвергалась и возможность существования самостоятельной науки о культуре, то есть культурологии.
Рэдклифф-Браун характеризовал общество посредством представлений о системе и структуре: «Социальная система есть система ассоциации персон в социальной структуре» [11, с. 84].
Говоря о значении его идей в истории мысли, следует привести высказывание Эванс-Причарда: «Главный вклад Рэдклифф-Брауна в антропологическую науку состоял в привнесенных им ясных теоретических определениях и заключался в его счастливом умении всегда отобрать нужный термин – он был истинным закройщиком концептуальных средств» [16, с. 244].
Российские исследователи отмечают, что идейное влияние Рэдклифф-Брауна было очень велико с 1930-х по 1950-е годы. Он повлиял на становление ряда выдающихся антропологов, к которым, в частности, относятся Глакмен, Фортес, Эванс-Причард, Тэрнер. Идеи Рэдклифф-Брауна способствовали формированию такого направления в социологии, как структурный функционализм (Мертон, Парсонс). С 1960-х годов его влияние стало в большей степени косвенным, хотя ряд высказанных Рэдклифф-Брауном «новшеств» [7, с. 332] вошли в антропологическую научную традицию.
При рассмотрении функционализма как направления, прежде всего в британской социальной антропологии, следует подчеркнуть, что в ней полевые исследования стали сочетать с функционалистским теоретизированием [см.: 9, с. 183]. Это произошло под влиянием Малиновского и Рэдклифф-Брауна и продолжалось около пятидесяти лет. Вместе с тем последователи этих исследователей в антропологии подвергли критике некоторые особенности функционализма. А именно, критиковалось как чрезмерное подчеркивание равновесия и порядка в социокультурных системах, так и почти полное отсутствие историзма, т. е. исторического ракурса в их исследованиях. Результатом этой критики стали различные уточнения и преобразования функционального подхода [см.: 9, с. 183].
Список литературы
1. Борофски Р. Введение к книге: «Осмысливая культурную антропологию» // Этнографическое обозрение. – 1995. – № 1. – С. 3–18.
2. Выжлецов П. Г. Основные положения культурного эволюционизма Л. Уайта // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2014. – № 3(5). – С. 79–93. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fikio.ru/?p=1160 (дата обращения 01.05.2018).
3. Выжлецов П. Г., Выжлецова Н. В. Функциональная теория культуры Б. Малиновского // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2017. – № 2(16). – С. 35–50. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fikio.ru/?p=2559 (дата обращения 01.05.2018).
4. Елфимов А. Л. Комментарии // Эванс-Причард Э. История антропологической мысли / Пер. с англ. А. Л. Елфимова; ст. А. А. Никишенкова. – М.: Восточная литература, 2003. – С. 292-322.
5. Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с.
6. Никишенков А. А. Структурно-функциональные методы А. Р. Рэдклифф-Брауна в истории британской социальной антропологии // Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции / Пер. с англ. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – С. 258–303.
7. Николаев В. Г. Рэдклифф-Браун Альфред Реджинальд // Культурология: Энциклопедия. В 2 т. / Гл. ред. и авт. проекта С. Я. Левит. – М., 2007. Т. 2. – С. 327-332.
8. Николаев В. Г. Социологизм А. Р. Рэдклифф-Брауна versus культурологизм Л. Уайта: к истории одного принципиального научного разногласия // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Том X. – Вып. 3–4 (42–43). – С. 64–75.
9. Николаев В. Г. Функционализм // Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь / Под ред. Ю. М. Резника. – М.: Академический Проект, Культура; Киров: Константа, 2012. – С. 176–191
10. Орлова Э. А. Культурная (социальная) антропология: Состояние и динамика развития // Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь / Под ред. Ю. М. Резника. – М.: Академический Проект, Культура; Киров: Константа, 2012. – С. 11–28.
11. Рэдклифф-Браун А. Р. Взгляд Уайта на науку о культуре // Личность. Культура. Общество. – Том X. – Вып. 3–4 (42–43). – С. 75–86.
12. Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии / Пер. с англ. и заключит. ст. В. Николаева. – М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. – 416 с.
13. Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции / Пер. с англ. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 304 с.
14. Уайт Л. Избранное: Наука о культуре / Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 960 с.
15. Уайт Л. А. Понятие культуры // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. 2-е изд. – СПб.: СПбГУ, 2006. – С. 17–48.
16. Эванс-Причард Э. История антропологической мысли / Пер. с англ. А. Л. Елфимова; ст. А. А. Никишенкова. – М.: Восточная литература, 2003. – 358 с.
17. Sterly J. Das Kulturkonzept Bronislaw Malinowskis. Eine kritische Prüfung // Anthropos. – Bd. 62. – H. 5/6. – 1967. – S. 815–822.
References
1. Borofsky R. (Ed.) Assessing Cultural Anthropology [Vvedenie k knige: “Osmyslivaya kulturnuyu antropologiyu“]. Etnograficheskoe obozrenie (Ethnographic Review), 1995, № 1, pp. 3–18.
2. Vyzhletsov P. G. Basic Ideas of L. White’s Cultural Evolutionism [Osnovnye polozhenya kulturnogo evolutsonizma L. Uayta]. Filosofiya i gumanitarnye nauki v informatsionnom obschestve (Philosophy and Humanities in Information Society), 2014, № 3, pp. 79–93. Available at: http://fikio.ru/?p=1160 (accessed: 01 May 2017).
3. Vyzhletsov P. G., Vyzhletsova N. V. Functional Theory of the Culture of B. Malinowski [Funkcionalnaya teoriya kultury B. Malinowskogo]. Filosofiya i gumanitarnye nauki v informatsionnom obschestve (Philosophy and Humanities in Information Society), 2017, № 2, pp. 35–50. Available at: http://fikio.ru/?p=2559 (accessed: 01 May 2017).
4. Elfimov A. L. Comments [Kommentarii]. In: Evans-Pritchard E. A History of Anthropological Thought [Istoriya antropologicheskoy mysly]. Moscow, Vostochnaya literatura, 2003, pp. 292-322.
5. Levi-Strauss C. Structural Anthropology [Strukturnaya antropologiya]. Moscow, Izdatelstvo EKSMO-Press, 2001, 512 p.
6. Nikishenkov A. A. Structural-Functional Methods of A. R. Radcliffe-Brown in the History of British Social Anthropology [Strukturno-funkcionalnye metody A. R. Redkliff-Brauna v istorii britanskoy antropologii]. In: Radcliffe-Brown A. R. Structure and Function in Primitive Society. Essays and Addresses. [Struktura i funkciya v primitivnom obschestve]. Moscow, Izdatelskaya firma Vostochnaya literatura, RAN, 2001, pp. 258–303.
7. Nikolaev V. G., Levit S. Y. (Ed.) Radcliffe-Brown Alfred Reginald [Redkliff-Braun Alfred Redzhinald]. Kulturologiya: Entsiklopediya. V 2 t, T. 2. (Culturology: Encyclopedia). Moscow, Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2007, V. 2, pp. 327-332.
8. Nikolaev V. G. Sociologizm of A. R. Radcliffe-Brown versus Culturologizm of L. White: the History of One Fundamental Scientific Difference [Sotsiologism A. R. Redkliff-Brauna versus kulturologism L. Uayta: k istorii odnogo printsipialnogo nauchnogo raznoglasiya]. Lichnost. Kultura. Obschestvo (Personality. Culture. Society), 2008, Vol. X, № 3–4 (42–43), pp. 64-75.
9. Nikolaev V. G., Reznik Y. M. (Ed.) Functionalism [Funkcionalism]. Sotsiokulturnaya antropologiya: istoriya, teoriya i metodologiya: Entsiklopedicheskiy slovar (Sociocultural Anthropology: History, Theory and Methodology: Encyclopedic Dictionary). Moscow, Akademicheskiy Proekt, Kultura; Kirov, Konstanta, 2012, pp. 176–191.
10. Orlova E. A., Reznik Y. M. (Ed.) Cultural (Social) Anthropology: State and Dynamics of Development [Kulturnaya (sotsialnaya) antropologiya: sostoyanie i dinamika razvitiya]. Sotsiokulturnaya antropologiya: Istoriya, teoriya i metodologiya: Entsiklopedicheskiy slovar (Sociocultural Anthropology: History, Theory and Methodology: Encyclopedic Dictionary). Moscow, Akademicheskiy Proekt, Kultura; Kirov, Konstanta, 2012, pp. 11–28.
11. Radcliffe-Brown A. R. White’s View of a Science of Culture [Vzglyad Uayta na nauku o kulture]. Lichnost. Kultura. Obschestvo (Personality. Culture. Society), 2008, Vol. X, № 3–4 (42–43), pp. 75–86.
12. Radcliffe-Brown A. R. Method in Social Anthropology [Metod v sotsialnoy antropologii]. Moscow, KANON-press-Ts, Kuchkovo pole, 2001, 416 p.
13. Radcliffe-Brown A. R. Structure and Function in Primitive Society. Essays and Addresses [Struktura i funkciya v primitivnom obschestve]. Moscow, Izdatelskaya firma Vostochnaya literatura RAN, 2001, 304 p.
14. White L. The Science of Culture [Izbrannoe: Nauka o kulture]. Moscow, Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2004, Moscow, 960 p.
15. White L. A. The Concept of Culture [Ponyatie kultury]. Antologiya issledovaniy kultury. Interpretatsii kultury (Anthology of Culture Research. Interpretations of Culture). Saint Petersburg, SPbGU, 2006, pp. 17–48.
16. Evans-Pritchard E. A History of Anthropological Thought [Istoriya antropologicheskoy mysly]. Moscow, Vostochnaya literatura, 2003, 358 p.
17. Sterly J. Das Kulturkonzept Bronislaw Malinowskis. Eine kritische Prüfung. Anthropos, Bd. 62, H. 5/6, 1967, S. 815–822.
Ссылка на статью:
Выжлецов П. Г., Выжлецова Н. В. Структурно-функциональный анализ общества и культуры А. Р. Рэдклифф-Брауна // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2018. – № 2. – С. 91–108. URL: http://fikio.ru/?p=3194.
© П. Г. Выжлецов, Н. В. Выжлецова, 2018